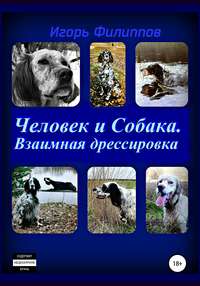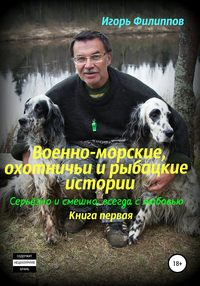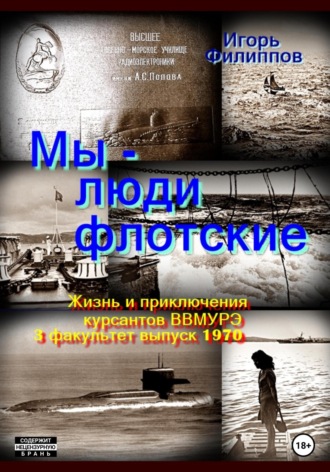
Мы – люди флотские. Жизнь и приключения курсантов ВВМУРЭ. 3 факультет, выпуск 1970
Девчонки
Девчонок у меня в друзьях не было. Откровенно говоря, я их очень стеснялся. К этому времени в классе сложились пары. Кроме тех двух пар, о которых было упомянуто ранее, была ещё одна пара, сразу после выпуска создавшая семью: Галя Клименчук и Володя Ткаченко. К сожалению, совместная жизнь этих симпатичных молодых людей продлилась недолго: их семья распалась…

Володя Ткаченко и Галя Клименчук. Лариса Бердник и Таня Бугрова
Некоторые девушки вышли замуж сразу после школы, например, Бугрова Татьяна, которая уехала с мужем в Москву.
Особо выделялась группа девушек-подруг; вшестером они пронесли верную дружбу через всю свою жизнь.
Иногда эта группа приглашала одноклассников к себе, на одну из квартир, потанцевать, поговорить, обсудить новинки литературы, опубликованные в очень популярных журналах «Юность», где печатались Белла Ахмадуллина, Юлия Друнина, Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко, Булат Окуджава, Юнна Мориц, Геннадий Шпаликов, Василий Аксёнов, Даниил Гранин и другие талантливые авторы, в то время ещё довольно молодые люди.
Однако не помню, чтобы на этих мероприятиях употреблялись спиртные напитки.
Вино. Первые пробы
Кроме школьных друзей у меня были и друзья по двору, что вполне понятно: мы вместе играли в хоккей и футбол, гоняли на великах, ныряли в прудах на Броневой, пили квас и пиво… В питии спиртных напитков у меня был неудачный опыт в Румынии, в пятом классе, когда с румынскими мальчишками я глотнул крепкую цуйку – румынскую водку. А вот вино я впервые попробовал с друзьями по ленинградскому двору, наверное, классе в восьмом.

Верные подруги, вверху: Совцова Наталья, Андреева Галина, Авинкина Галина; внизу: Ануфриева Татьяна, Зайцева Галина, Кудасова Татьяна
Как-то раз мы с «однодворцами» Андрюхой Калининым и Мишкой Гернером ловили речных миног в речке Стрельнинке. В то время миноги во множестве заходили в ручьи и речки из Финского залива, особенно в весеннее время. Добирались до речки на трамвае № 36. Взяли с собой большой бидон, еду, а Андрюха прихватил бутылку портвейна «33». Миног было множество, и бидон довольно быстро наполнялся. Ловить их руками было легко. Можно было бы ловить и ещё, но, внезапно увидев под кустом труп мёртвой собаки, покрытый крупными присосавшимися и шевелящимися миногами, ловить больше не захотелось. Хотели даже выкинуть пойманных миног, куда подальше, но потом передумали.
Сидели, греясь на скупом ленинградском солнышке, ели бутерброды и обсуждали ловлю. Андрюха, достав бутылку, предложил отметить удачную рыбалку. Как большие мужики, разлили портвешок по стаканам и… махнули за два раза всю ёмкость. Через пять минут мы стали веселы и смелы, захотели вытащить труп собаки на берег, чтобы не отравлял чистую воду речки. Через полчаса на нас снизошли печаль и тоска… мы вдруг так устали, что заснули прямо на бережке, рядом с раскиданными вещами…
После этой вылазки мы долго не притрагивались к вину. Вернулись к этому процессу уже в 9-м классе, зимой, когда увлеклись посещением катка Кировского завода, у Нарвских Ворот. Андрюха каким-то образом нашёл «друзей» в доме на Нарвской площади. Мы втроём (у нас с Андреем в спортивных сумках «канады», у Миши – беговые с длинными лезвиями, у кого-нибудь бутылка «33»-го, или «777», или «Розового» портвейна) поднимались на третий этаж, где нажимали на кнопку звонка. Молча выходила пожилая женщина с тремя чистыми стаканами, раздавала их и также молча скрывалась за дверью. Мы разливали, разговаривая и перекуривая, выпивали, а пустую бутылку и стаканы ставили на стул рядом с дверью, добавляя к этому несколько мелких монет. Ещё раз звонили и уходили, не дожидаясь появления женщины.
После этого шли на каток, куда проникали, перелезая через забор в известном месте, не освещённом фонарями. Всё происходило по известной поговорке болельщиков:
– Стадион «Динамо», через забор и – тама!
Вот только стадион был не «Динамо», а «Кировец». Этот стадион и каток старожилы Кировского района и Автово называли ещё и «Каучук», по старой памяти. Дело в том, что изначально – ещё с 1920-х послереволюционных лет все спортивные сооружения на этом месте принадлежали заводу резиновых изделий «Красный треугольник» и назывались спортивной базой «Красный химик». Перед самой Великой Отечественной Войной, начиная с 1939 года, стадион, каток, лыжная и гребная базы получили название «Каучук», которое существовало до 1950-х лет, после чего всё это хозяйство стало известно как Стадион Кировского завода, или «Кировец».
Перебравшись через забор, преспокойненько проходили в раздевалку, одевали коньки, прятали в сумки обувь и сдавали пальто, куртки и сумки. Иногда катались и в распахнутом пальто – так считалось более шикарно. Что мы вытворяли на многолюдном катке – это особая история. Представьте себе быстрых, вёртких и крепких молодых парней, выделывавших кренделя на льду, в одной руке зажжённая сигарета. В то время среди молодых девчонок были в моде высоко начёсанные причёски, да ещё обильно сбрызнутые лаком. Нам – дуракам – казалось очень забавным, проносясь мимо приглянувшейся девушки, крутануться и, подскочив к девчонке с высокой причёской со спины, ткнуть сигаретой вглубь причёски. В запах духов и лака тут же вплетался запах тлеющих волос. Было много криков и визга. Иногда можно было и схлопотать от парней, с которыми девушки приходили на каток.
Так мы проказничали две зимы; в 11-м классе я с этим покончил: из-за болезни отца развлекаться не хотелось…
Об очень похожем начале употребления спиртных напитков в юном возрасте рассказал мне в 1972 году Михаил Московенко, когда проездом останавливался у нас в Североморске:
– Во время нашей учёбы в Нахимовском училище тоже была история раннего распития вина – и тоже портвейна «33» – в танцевальном кружке, в котором мы занимались со Славой Калашниковым. Бутылку портвейна нам купил и принёс нахимовец старшего курса, который ранее обещал моей маме «приглядеть» за мной. Вот он и «приглядел!» Эту самую первую свою бутылку мы выпили на пятерых в Актовом зале училища, замаскировавшись спортивными матами. Был ноябрь 1959 года, т.е. нам было по 12 – 13 лет.
Последняя охота с отцом
Осенью 1963 года, когда я учился в уже в 11-м классе, мы охотились с отцом на охотничьей базе Военно-Морской академии, под местечком Мюллюпельто, расположенном на Карельском перешейке. Там была масса озёр, живописно обрамлённых камышами в мелководных заливах. На приглубых местах озёр высились скалы с ельником и берёзово-ольховыми перелесками. Осеннего перелёта северной утки ещё не было, но местной птицы вполне хватало.
Некоторые эпизоды этой охоты запомнились мне на всю жизнь.
Получив на базе лодку, мы вдвоём – я на вёслах – пошли к дальнему берегу длинного озера, где в мелководном заливе, по словам егеря, держалось много уток, жирующих перед отлётом на юг. По пути отец внезапно приказал мне:
– Суши вёсла! Замри!
Думая, что отец увидел уток, я, чуть подтабанив одним веслом, развернул лодку левым бортом вперёд, чтобы отцу было сподручнее стрелять. Но это были не утки: метрах в пятнадцати перед нами вплавь пересекал озеро… крот! Никогда, ни отец, ни я, не видели плывущего крота. Как он, почти слепой, мог передвигаться во враждебной для него среде? Как он мог ориентироваться? А плыл он очень быстро и шумно, что его и погубило. Кроту не хватило лишь пары метров до прибрежных камышей, как раздался сильный всплеск, в фонтане брызг мелькнул пёстрый хвост крупной щуки, и жизнь бедолаги-крота трагически оборвалась…
Когда мы подошли к дальнему берегу, то сразу увидели подходящее место для ночёвки. Поскольку приближался вечер, мы успели поставить лишь несколько донок на выползка, а охотиться решили на рассвете, с «пропёшкой», которую отец поручил сделать мне. Вспомнив Румынию и наши с отцом охоты в Дунайских плавнях, я взял топор и быстренько вырубил подходящий крепкий шест, не заостряя концы, чтобы при упоре в вязкое дно он не застревал. Когда я принёс готовую «пропёшку» к костру, отец уже почистил несколько крупных окуней, пойманных на донки, и начинал варить уху в знакомом мне котелке из нержавейки.
Ужинали в темноте. Время от времени позвякивали колокольчики на донках: рыба клевала хорошо. За крепким чаем отец разговорился. Сейчас, через много лет, я уверен, что отец разговорился, предчувствуя скорый уход: о своей жизни, о Великой Отечественной Войне, о смерти боевых друзей-товарищей, о героизме наших моряков, о том, как тяжело было в это время маме, которая в эвакуации на родине отца в Калининской области (отец всегда говорил – «в Тверской губернии») трудилась на лесоповале.
Потом отец направил разговор в сторону моей будущей жизни. Он говорил много душевных и правильных слов о Родине, о семье, о необходимости получить хорошее образование, о военной службе, о профессии военного моряка, о которой он мечтал с детства и посвятил ей всю свою жизнь… Мы сидели у костра очень долго, наверное, до полуночи. Шалаш строить не стали, а, завернувшись в офицерские плащ-палатки, улеглись на тёплый песок под костром, угли которого отгребли в сторону…
Спал ли отец, не знаю. Ещё в полной темноте он разбудил меня. Быстро глотнув по кружке чая с бутербродами, собрали ружья и, взяв патронташи, отчалили. Вёсла лежали на дне вдоль бортов лодки, а двигались мы исключительно на «пропёшке», тихо опуская шест в воду и стараясь не булькать. Чуть начинало светать, и отец решил немного подождать, а то в такой темноте можно было промахнуться по налетающим и взлетающим уткам, наделать подранков, которые погибнут зря, а отец этого не любил.
Охота задалась: уток было множество, они налетали с разных сторон, да и мы, «пропёхиваясь», поднимали иной раз сразу по нескольку штук. Отец стрелял без промаха, делая один удачный выстрел за другим. Через час он поменялся местами со мной, и теперь уже я стрелял по уткам. Маленько намазал, но всё же результатами своей стрельбы был доволен. В общей сложности отец взял двенадцать крякв и трёх чирков-свистунков пятнадцатью выстрелами, а я – четырёх крякв и одного чирка-трескунка десятью выстрелами.
– Всё! Шабаш охоте! Пора и честь знать! – Весело скомандовал отец.
Всю обратную дорогу, пока ехали на автобусе до станции, потом на электричке до Ленинграда, затем в метро до станции «Кировский завод», отца не покидало хорошее настроение.
…
Это была последняя охота в его короткой, но такой богатой на события, жизни…
Несчастье в семье, школьные экзамены и институт
В декабре отца положили в Военно-Морской госпиталь, и он более из него не вышел… Всю зиму и весну отец тяжело уходил из жизни. У него была неизлечимая болезнь: рак лёгких. Врачи ничего не смогли сделать. Умер отец 5 мая 1964 года; было ему всего 54 года.
Смерть отца сильно подкосила нашу семью. Мы потеряли опору в жизни, не представляя ранее, что значил для нас отец. К школьным экзаменам я не готовился совсем. Более того, я даже не хотел на них идти. Мать и бабуля не знали, что со мной делать… И только школьные друзья, Виталий и Олег, уговорили:
– Ты только попробуй! Может быть, сможешь что-то ответить и написать: ведь ты всё-таки не так и плохо учился!
Почти все экзамены я сдал на тройки… но сдал. Четвёрки получил только по физике и английскому. Сочинение по литературе писал, как и всегда, на свободную тему, получив за него две пятёрки.
…
Почему я сразу не пошёл в Высшее Военно-Морское Училище, не знаю… Думаю, что меня просто подкосила смерть отца…
В то время почти все молодые люди, окончившие школу, стремились поступить в высшие учебные заведения. Большинство стремилось к знаниям, что было совершенно естественно! Советские люди были очень грамотными, начитанными. Поговорите сейчас (2022 год) с современными модными блогерами, к жизни которых так льнут подростки и молодые люди, желающие кривлянием перед видеокамерой огребать огромные деньги: бессвязная неграмотная речь, бесконечный хохот, невозможность выразить ни одной мысли, жесты и мимика, достойная шимпанзе или орангутанга, хотя, конечно же, уважаемых обезьян я не хотел обидеть…
Орнитологию в ЛГУ я отложил, как дело не серьёзное. А поскольку прилично рисовал, мне пришла в голову идея, что можно стать архитектором: проектировать разные здания, дворцы культуры, театры. И польза людям будет, и профессия интересная. Но подошёл я к этой задаче спустя рукава, не разобравшись в особенностях экзаменов. А вернее – лишь одного экзамена – рисунка. Позже оказалось, что всю зиму при факультете архитектуры функционировали курсы рисунка, на которых показывали и объясняли правильность техники нанесения теней, создания объёмов и пр., чего я, идя на экзамен, вообще не представлял. В первый день надо было изобразить карандашом верхнюю часть колонны, под названием «капитель». Быстрее всех завершив рисунок, я ушёл, гордый своей быстротой. Дурачок, который не понимал, что не в быстроте дело, а в умении.
Экзамен по рисунку длился два дня. На второй день нам представили гипсовую голову греческого бога Зевса. И снова, потрудившись чуть больше, я сдал рисунок преподавателю ранее всех. Через день вывесили результаты. Экзаменаторы были настолько строги, что даже четвёрок не было. Лучшими оценками стали тройки с плюсом. Проходными были даже двойки с плюсом. Моей оценкой быстроты исполнения стала двойка. Меня должно было удовлетворить, что были оценки и двойка с минусом, и даже «кол» с плюсом… Сдали экзамен по рисунку всего человек 10 – 12, из нескольких десятков.
Огорчённый, я пошёл в приёмную комиссию забирать документы. Мне предложили досдать два экзамена (химию и физику), и, если на этих экзаменах я получу в сумме не менее восьми баллов, то могу быть принятым на факультет ПГС (промышленно-гражданское строительство), по окончании которого буду строить заводы, фабрики, мосты, плотины, жилые дома и т.п. сооружения. Немного подумав, решил попробовать: а вдруг в дальнейшем можно будет перейти на архитектуру? Химию сдал, протащив на экзамен учебник, в котором удалось всё подсмотреть. Получил «трояк». На физике повезло отвечать на лёгкие для меня вопросы: сдал, можно сказать, с блеском, на «пятак».
Зачислили на факультет ПГС на специальность инженер-строитель. Когда первый раз появился в группе, с удивлением увидел там же одноклассницу по школе, Кудасову Татьяну. На тот же факультет, но на другую специальность, поступил Виталик Тупицын. Порадовались, но и пожалели слегка, что не попали в одну группу.
Поначалу учёба меня увлекла, да и стипендия в 32 рубля была хорошим подспорьем для семьи, лишившейся кормильца. Надо сказать, что к этому времени мама устроилась работать техником в Светокопировальную мастерскую, а бабуля, вспомнив свою специальность портнихи, принимала «подпольные» заказы на пошив, перешив и ремонт одежды.
В учёбе меня увлекали только те науки, которые были связаны с изображением чего-либо: технический рисунок, начертательная геометрия, машиностроительное черчение и картография. В этом я чувствовал себя, как рыба в воде. Остальные предметы, особенно высшая математика, давались плохо, и, по школьной привычке, я их совсем забросил. Когда подошло время подготовки к экзаменам за первую зимнюю сессию, я получил зачёты только по английскому, черчению, рисунку и начерталке. Постепенно приходил я к единственно правильному для себя выводу: профессия инженера-строителя – не моя Судьба! Да и «…перевод на архитектуру был невозможен»; именно так мне объяснили в деканате.
Но как мне сказать об этом моим родным людям: маме и бабуле? Снова будут слёзы, расстройства… И я соврал. Соврал, сказав, что экзамены сдал успешно. И уехал на родину отца, в Тверскую губернию, к его брату, а моему дяде Сергею и его жене тёте Наташе. Уехал на охоту, с ружьём и лыжами. На две недели.
Не буду описывать, какие приключения там я испытал, может быть, в будущем я напишу серию охотничьих рассказов, где и опишу те события. Но вот что меня терзало постоянно, так это вопрос:
– Как же объяснить мой ужасный поступок, такое чудовищное враньё, моим самым родным и близким людям?
«Стройбат»
К моменту возвращения в Ленинград мама и бабуля всё уже знали… Более того: на столе меня ждала повестка из военкомата, призывающая незамедлительно прибыть для прохождения военной службы, как военнообязанного, исключённого из высшего учебного заведения с военной кафедрой.
Всего через несколько дней я уже трясся в поезде «Ленинград-Москва» на юго-восток, вместе с другими отчисленными из ленинградских институтов неудавшимися студентами, а также с великовозрастными молодыми людьми, которым несколько лет удавалось избежать призыва.
Некоторым было уже по 28 лет; их «рекрутировали» на самом пределе призывного возраста. Именно они организовали всеобщую пьянку в поезде, а вернее – в двух хвостовых вагонах, в которых разместилось более девяноста будущих «бойцов строительного фронта», целая рота. Мы уже знали, что служить будем в Саратове, в «стройбате», поэтому в Москве предстояла пересадка.
Выехав ранним утром, пассажирский поезд тащился к Москве медленно, как черепаха, подолгу застревая на каждом полустанке для пропуска встречных скорых и даже товарняков. Из вагонов нас не выпускали, но у многих «с собой было». Пьянка продолжалась весь день. Наш старший – офицер в чине капитана – маленький, кривоногий, в мятой шинели, за день «накушался» так, что стоять не мог. Далее до самого Саратова нами командовал в меру трезвый пожилой старшина.
Когда поезд наконец-то добрался до Москвы, некоторых «вояк» с трудом добудились. Выбравшись из вагона, под руководством старшины построились и, подхватив под руки капитана, кое-как двинулись к станции метро «Комсомольская». Прокатившись всей толпой в метро, через три остановки вышли на станции «Павелецкой». До Павелецкого вокзала было совсем близко, каких-нибудь 300 метров, но тащились мы полчаса: всё время кто-то отставал, кому-то надо было купить сигарет, или «оправиться», да и наш капитан совсем скис. На перроне нас встречала целая бригада сотрудников во главе с начальником поезда. Старшина с трудом, шаря по капитанским карманам, нашёл нужные документы, и нам разрешили погружаться в вагоны. Как только разместились, поезд тут же и тронулся. Колёса на стыках привычно застучали.
…
Сейчас, когда я пишу эти строки, тут же вспоминается рассказ моего товарища-приятеля Александра Венерова, на эту же тему. Интересно, как похожа была и у него история переезда новобранцев. Саша был призван для прохождения службы на Северный Флот, где служил в городе Полярном, на базовом тральщике «Коломенский комсомолец», на котором, по его словам, была собрана «отличная команда отличных голубоглазых моряков во главе с отличным голубоглазым командиром».
Так вот, и у него точно также, при перелёте новобранцев на СФ, их временный командир, капитан-лейтенант в годах, так напился, что самостоятельно идти не мог, и его несли на плечах два дюжих парня-новобранца. Наверное, Сашина история ещё более увлекательна, так как ребятам, имея на плечах такой ценный, но совершенно бесчувственный груз, пришлось самостоятельно узнавать дорогу, нужный автобус, а потом и рейсовый катер, собирать вскладчину деньги на билеты, включая и недвижимого командира. По пути следования надо было объясняться с патрулями, а также с начальниками всех степеней и рангов, отвечая на сложный для понимания вопрос, кого же это они несут, а ещё и двигаться правильным строем…
Однако все новобранцы благополучно добрались до воинской части, где и отслужили верой и правдой положенный срок!
…
Спальное помещение роты представляло собой длинный одноэтажный деревянный барак, плотно набитый двухъярусными железными койками с тумбочками между ними. Рота состояла из взводов, взводы – из отделений. Взводных командиров в лице офицеров не было, их заменяли зкв в чине сержантов и старших сержантов, назначенных из числа старослужащих по третьему году службы. Для них было отведено отдельное помещение, называемое сержантской комнатой. Нам, первогодкам, повезло, так как кроме сержантов, старослужащих в роте не было: все были на равных. Но всё равно мы представляли собой пёструю массу, возрастом от 18 до 28 лет. Может быть, именно поэтому драк между нами и рукоприкладства со стороны старшин не было.
Командиром роты был очень старый – так мне тогда казалось – майор, лет 50-ти, худощавый, среднего роста, полностью седой. Орденские планки на его кителе рассказали нам о том, что он геройски воевал в Великую Отечественную. Наша рота входила в число четырёх таких же рот, составлявших батальон. Командир батальона, также майор, был значительно моложе нашего командира роты. Распределив личный состав по отделениям и взводам, командир роты собрал всех в клубном помещении батальона и разъяснил, чем мы – новобранцы – будем заниматься. Сначала мы пройдём ускоренными темпами – работа не ждёт! – «Курс молодого бойца», из которого нас лишь «краешком коснутся» строевая подготовка, Уставы внутренней и немного караульной службы и… всё! Стрелять мы не будем, а после принятия Присяги сразу начнём работать на разных объектах, в основном – на постройке моста через Волгу, строительстве большой котельной и жилых зданий Саратова.
Все ротные бараки стояли параллельно друг другу. С одной торцовой стороны был обширный утоптанный участок, представлявший собой нечто вроде плаца с асфальтированным прямоугольником 100 на 50 метров для строевой подготовки и общих построений батальона. С другой торцевой стороны был устроен стадион с футбольным полем, воротами, беговыми дорожками и местом для гимнастических снарядов, прыжков и метаний. В стороне были размещены склады, столовая, здание для офицеров, клуб и магазин. Гальюн был на улице, общий для всех рот, в виде длиннющего дощатого строения, сооружённого над глубокой канавой. Над канавой был сделан «насест» с выпиленными в досках отверстиями-«очками». Если посмотреть в дырку-«очко», то можно заметить, кроме того, что там обычно лежит, ещё и множество снующих туда-сюда крыс, огромных пасюков. Ходила легенда, что однажды особенно большая крыса – крысиный царь – подпрыгнул, вцепился острыми зубами в мужские причиндалы, и повис, злобно шипя. Можно представить себе весь ужас для бедолаги «стройбатовца»…
Всего за две недели мы прошли «по диагонали» краткий курс молодого бойца, затем нас построили, весь батальон. Наша рота стояла в центре, в две шеренги. Вызванный из строя замполитом батальона первогодок стройбатовец, обладавший громким голосом, вразвалочку вышел из строя, принял листок с текстом Присяги у замполита, развернулся к строю лицом, громко проорал текст присяги и, вернув листок замполиту, снова стал в строй. Мы по очереди выходили и молча (!) расписывались против своей фамилии в списке. При этом одеты мы были не в парадное обмундирование, а в обычные ватники с погонами. Как нам объяснили старослужащие, парадной одежды для «стройбатовцев» они и не видывали, возможно, её вообще не существовало.
Каменщик, копатель, редактор, футболист, мастер «тату»…
Поначалу мы с Геной, отчисленным студентом Ленинградского Государственного педагогического института имени Александра Ивановича Герцена (ЛГПИ), были поставлены на подсобные работы в бригаде опытных каменщиков, настоящих мастеров кладки стен из кирпича. Мы носили им кирпичи и раствор. Начали мы с трёх кирпичей, а уже через месяц взлетали по мосткам на четвёртый этаж, легко неся по восемь штук. Одновременно учились и особенностям кладки: сколько на кельму брать раствора, какой стороной кирпич сподручнее класть и прижимать, как правильно расколоть кирпич и т.п. Работа завлекательная, если к ней отнестись с интересом. Интерес у нас был, поэтому нам иногда доверяли класть забудку, заполняя битым или «б/у-шным» кирпичом пустоты между фасадной и внутренней сторонами стены.
Но перейти на серьёзную работу каменщиками нам не привелось: были переведены на копание огромных и глубоких ям под заливку их бетоном. Создавался фундамент котельной для отопления целого района Саратова. Почва глинистая, копать было очень трудно. Экскаваторов не было, очевидно, на нас экономили. Тогда шутили, что дешевле прислать роту «стройбатовцев» с лопатами, чем один экскаватор.
Эта работа поначалу сильно выматывала, но через несколько дней мы привыкли, и, стоя по щиколотку в мокрой густой глине, кидали её выше на очередную ступень, где такие же ребята отправляли её ещё выше… и так далее…
Кроме основной работы, я занимался ещё двумя направлениями деятельности, если можно так сказать. Это были ротная стенгазета и футбол. Ещё когда мы – новобранцы – были построены первый раз, командир роты спросил, кто может хотя бы маленько рисовать. Вышли из строя мы с Геной. Так я стал редактором, а Гена – помощником редактора. Потом уже Гена мне признался, что вышел из строя, желая получить должность, чтобы не очень «вкалывать». Но «не срослось»: пришлось весь день тяжело «вкалывать», а потом – когда у всех, не умевших рисовать – было свободное время, старательно изобретать ротную стенгазету. Иногда и в ночное время: приближался батальонный конкурс ротных газет. За идеологическим содержанием публикаций и рисунков внимательно следил батальонный замполит. Он очень рьяно этим занимался, поэтому все ротные газеты получились совершенно одинаковыми. Первое место присудили нашей газете, потому что я нарисовал в левом верхнем углу голову вождя мирового пролетариата. Ленинская голова получилась как живая, душевно улыбалась, как будто призывая «стройбатовцев» к новым трудовым подвигам по рытью особо глубоких ям. Кстати (или некстати), за месяц до нашего прибытия в Саратов в такой же ямине был завален насмерть несчастный «стройбатовец»…