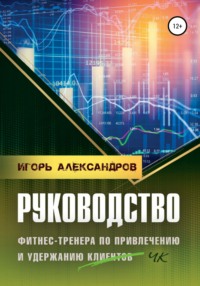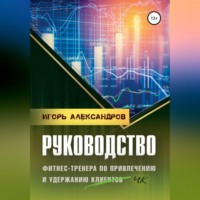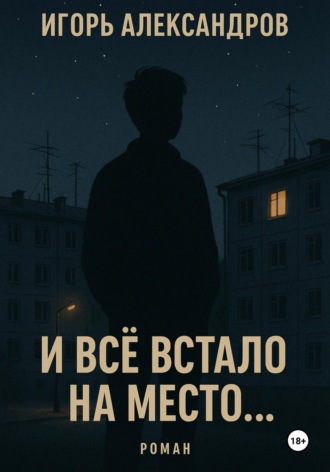
И всё встало на место…

Игорь Александров
И всё встало на место…
Глава 1. Корни.
Лёша жил в трёхкомнатной квартире у бабушки с дедушкой – в доме, который хранил не только запах старой мебели, корицы и кипячёного молока, но и тишину, в которую можно было спрятаться от всего остального мира. В этой квартире они оказались после развода родителей – втроём: Лёша, мама и старший брат Ваня. Это было не временное пристанище, не «пока перебьёмся». Это стало домом. Тихим, немного тесным, но надёжным, как крепость, в которой стены не давят, а обнимают.
Всё началось, когда отца не стало в их жизни. Сначала – реже приходил, потом – дольше не задерживался. Потом исчез совсем. Уехал. В Питер. «На заработки», – говорили взрослые, когда думали, что Лёша не слышит. Говорили с натянутой надеждой в голосе, которая держалась на тоненькой ниточке. Мама тогда почти не спала, почти не ела. Работала на шинном заводе – в три смены, без выходных, без перерывов на слабость. Возвращалась поздно, с кожей, пропитанной резиной и усталостью, снимала сапоги и минутами просто сидела в темноте, уткнувшись в ладони. Но при этом – улыбалась утром. Чай в кружке, бутерброды, аккуратно завязанный шарф. Всё по порядку, всё как надо.
Лёша не спрашивал. Он просто ждал. Как умеют ждать только дети – без условий, без сроков, без гарантии. Он ждал, что однажды утром в дверь снова позвонят, и он услышит этот шаг в коридоре – тяжёлый, знакомый. Ждал, что отец зайдёт, как будто ничего не было, скажет: «Ну вот я и дома», – и всё встанет на место.
Он ждал и тогда, когда Ваня – старший, уверенный, громкий – вдруг стал молчаливым. Когда за лето вытянулся, сжал губы в прямую линию и стал вставать первым, чтобы встретить маму с работы. Когда перестал бегать с пацанами, а всё чаще сидел за тетрадками или просто молча смотрел в окно. Он будто решил: теперь на нём – всё. Не спрашивал, не жаловался. Просто взял и стал взрослым.
Он ждал и тогда, когда они переехали к бабушке с дедушкой. С вещами, с коробками, с мамиными тетрадями и папками, с Лёшиными машинками и Ваниными книгами. В одну из трёх комнат, не самую большую, но самую тёплую. Бабушка сразу постелила новое бельё, дед вытащил старый радиоприёмник и поднастроил волну. Никто не говорил: «живите, пока не станет лучше». Все просто принимали. Как должно быть.
Лёша всё равно ждал. Потому что у детей надежда не умирает. Она просто оседает где-то под рёбрами, между сердцем и животом, и тихо греет, даже когда мир вокруг становится холодным.
Отец, ветеран Афгана, поначалу держался крепко. В нём жила выправка – прямая спина, подбородок вперёд, взгляд, от которого хотелось вытянуться по стойке. Он работал – не всегда стабильно, но по-мужски: без жалоб, с тяжёлой физикой, с усталостью, прячущейся в жестах. Он приносил домой деньги, учил сыновей стоять на ногах – и в прямом, и в переносном смысле. Учил драться – не для драки, а чтобы не прогнуться. Учил терпеть боль. Молчать, если ранило. Не плакать на людях.
Трезвым он был как будто из другого мира – большого, правильного, справедливого. Голос у него был громкий, сочный, будто резонировал внутри. Он подбрасывал Лёшу к потолку так, что у того перехватывало дыхание, и ловил без тени сомнения – легко, точно, как будто в этом было что-то священное. Он рассказывал истории про службу – не прямо, не с героизмом, а так, между делом. Водил в парк, учил завязывать узлы, кидать нож, правильно ставить удар. От него пахло табаком, потом и мужской уверенностью. Он казался несгибаемым.
– Ты же мужик, – однажды сказал он, когда они сидели у подъезда на бетонных ступенях. В пальцах – крышка от пивной бутылки. Крутил её, глядел куда-то в асфальт. – Мужик должен уметь за себя постоять. Не ныть. Не бегать. Стоять до конца.
Лёша кивнул. Он смотрел на отца снизу вверх и верил каждому слову – не потому что понимал, а потому что чувствовал: за этим словом – скала.
Но стоило выпить – будто тень проходила по всему лицу. Глаза наливались красным, движения становились вялыми, голос – тусклым, с натянутой угрозой в каждой паузе. Он злился не на близких – на что-то своё, из прошлого. Произносил обрывки фраз, словно ругался с невидимыми людьми. Говорил о предательстве, о долге, о жизни, которая «всё не так пошла». И никто не мог достучаться до него в эти минуты. Ни мать, ни Ваня, ни тем более Лёша.
– Мы же договаривались… – шептала мама, стоя у шкафа с бельём. Деньги прятала среди наволочек. Голос её был тихий, ровный, почти как молитва. Но глаза – натянутые, полные молчаливой тревоги.
Он смеялся. Глухо, резко. В этом смехе не было ни капли веселья. Только усталость и отстранённость. Отворачивался, хлопал дверью, уходил в тишину, оставляя за собой шлейф пустоты и громкого молчания.
В такие вечера Ваня становился скалой. Одиннадцать лет. Ни крика, ни суеты. Просто – встал перед матерью и стоял. Кулаки сжаты, взгляд твёрдый. Он ничего не говорил, не спорил, не уговаривал. Только не давал пройти. И в этом молчании была сила, которую понимал даже отец.
– Ваня, иди в комнату, – просила мама, почти беззвучно.
– Нет, – говорил он.
Иногда отец всё-таки проходил мимо, сжав губы, не глядя ни на кого. Иногда садился на кухне, тянул воду, курил, тяжело дыша. А иногда – хлопала входная дверь, и только Найда, их рыжая собака, скулила у порога.
Наутро всё будто смывалось. Он тёр виски, морщился от света, гладил Лёшу по голове и говорил:
– Прости. Я… больше не буду.
И действительно не было. День. Два. Неделя. А потом – всё начиналось снова.
Однажды он ушёл в запой и не вернулся. Мама всё звонила, шепталась с бабушкой, листала телефонную книжку, но в голосе было уже не беспокойство – тишина. В воздухе стало глухо, как перед бурей. Потом – просто стало ясно: не придёт.
А когда вернулся, выглядел чужим. Бледным. С дорожной сумкой, запахом спирта и усталости. Он молча собрал вещи. Сказал: «В Питер. Там есть работа. Попробую всё с начала». Обещал писать. Обещал звонить.
Лёша стоял босиком у порога, скомкав носки в руке. И ждал. Потому что дети умеют ждать. Не надеяться – ждать.
Когда через восемь лет в дверь постучали, и Лёша открыл, то это был не отец. Это была соседка, передавшая, что «он вернулся». Не к ним. К своей матери. В другую квартиру. В другой подъезд. Это было как шорох по стеклу: вроде ничего страшного, но мурашки – до самого горла.
И всё равно он побежал. В шлёпанцах, в футболке, не почувствовав ни ветра, ни асфальта под ногами. Сердце билось так, будто всё детство снова влезло в грудь. Он стучался, как в последний раз. Дверь открыла бабуля – его бабушка по отцу. В глазах – удивление и мягкая тревога. «Он в комнате», – только и сказала. И Лёша вошёл.
Отец сидел на табурете, спиной к окну. Постаревший. Осунувшийся. С дорожной сумкой, поставленной в угол. Ботинки сбились с каблуков, волосы с проседью, взгляд – не как раньше. Тот, прежний, был камнем. А этот – пеплом. И всё равно Лёша узнал его сразу. Потому что дети отцов узнают не по лицу. По дыханию. По какому-то запаху. По молчанию.
Он остановился. Внутри стало тихо. Как перед тем, как бросаешься в воду —
Полсекунды без воздуха.
Он не крикнул. Не бросился. Просто встал. И посмотрел. Долго. В упор.
Отец тоже молчал. Потом сказал:
– Подрос.
Словно восьми лет не было. Словно не молчал. Не уезжал. Не обещал. Просто – «подрос».
Лёша стоял и чувствовал, как в груди тянет что-то старое, хрупкое, не сломанное, но и не целое. Не было ни обид, ни укоров. Он не готовил слов, не думал, что скажет, если увидит. Внутри просто открылось нечто тихое и важное, как будто запылившееся письмо в ящике – то, что когда-то было отложено «на потом».
Они поговорили. Не о прошлом. Не о том, почему он ушёл. Не о том, почему не вернулся к ним, а поселился у бабули. Словно об этом не стоило говорить. Словно время забрало это право.
Говорили о жизни – будто перескочили целую главу, и теперь читают следующую. О погоде, о работе, о том, как там в Питере. О том, как здесь. Без напряжения, без драмы. Но внутри у Лёши всё дрожало, как капля воды на стекле, когда поезд резко тормозит.
Он слушал голос – тот самый, который звучал когда-то на кухне сквозь запах жареной картошки и сигаретного дыма. Голос, который знал на слух, как колыбельную. Только теперь в нём было что-то другое. Не тяжесть – пустота. Как будто отец стал меньше. Не по росту, не по массе. А внутри.
– Ну ты вырос… – первым сказал отец, разглядывая Лёшу, будто не верил, что это он. – Прям мужик уже.
Лёша кивнул.
– Бывает.
– У мамы всё по-старому? – спросил он после паузы, будто проверяя, остался ли там хоть какой-то мостик.
– Всё как раньше, – тихо ответил Лёша.
Отец усмехнулся краешком губ.
– А у меня вот… В Питере не очень. Возвращаюсь понемногу.
– Понятно.
Повисла тишина. Старые часы на стене тикали, как капельница – не спеша, будто отмеряя их короткую встречу.
– Работал грузчиком, потом в порту. Сейчас тут что найду… – он почесал шею. – А ты? Куда дальше?
Лёша пожал плечами.
– Не знаю пока.
– Это нормально, – сказал отец. – Главное – не гнать. Сам поймёшь, когда время придёт.
– Может быть.
– Ты всё такой же… сдержанный, да?
– А ты?
Они оба впервые усмехнулись – не в унисон, но в одно дыхание. Отец кивнул. Без оправданий. Без пафоса. Просто – кивнул.
После паузы Лёша вновь взглянул на него.
И не узнал сразу. Вроде бы тот же человек – голос, осанка, привычка прищуриваться. Но лицо…
Морщины у глаз, залом у рта, седина в висках. Как будто время прошло по нему пальцами.
Лёша чуть отстранился, неосознанно. Не от страха – от неожиданности.
Он не готов был к этому лицу. Он помнил другое. Молодое, сильное.
А это – было настоящее.
И ему нужно было время, чтобы его принять.
– Пойдём чаю попьём? – предложил отец, неуверенно.
Лёша слегка качнул головой.
– В другой раз… наверное.
Они посмотрели друг на друга. Не как отец и сын. Как два человека, которые встретились однажды на обочине своей общей дороги.
Когда Лёша вышел оттуда, бабуля провожала его взглядом, в котором не было вопросов. Только тихое понимание. Как будто знала: этот мальчишка пришёл туда не за словами, не за объяснениями – за правом увидеть, что отец всё ещё живой. И убедиться: да, это он. Не призрак, не тень. Живой. Уставший. Вернувшийся не туда. Но всё же – вернувшийся.
Мама о той встрече ничего не спросила. Не потому что не догадывалась – знала. Просто была из тех женщин, которые умеют держать свои раны под замком. Тихо, плотно, без щелей. Она вообще редко говорила о прошлом. Её прошлое было как сберегательная книжка, на которую никто не имел доступа. Хранила в себе, как закрытую дверь. Не потому что боялась, а потому что не хотела, чтобы из неё сочилось хоть что-то.
Мама… Она пахла шинной пылью, чаем с мятой, выстиранным полотенцем. У неё всегда были аккуратные пальцы – не маникюр, не глянец, а забота. Пальцы, которые заплетали волосы, зашивали порванный рукав, мазали зелёнкой сбитые коленки, и в этих движениях было больше любви, чем в словах «я тебя люблю».
Каждое утро она уходила на завод, словно уходила в бой. Только без оружия и без побед. Возвращалась поздно, усталая, со спиной, будто ломит под бетонной плитой. Но улыбалась. Тихо. Без надрыва. Как будто это не она тащила всё на себе, а кто-то другой. А она – просто помогает.
Однажды Лёша услышал, как она тихо сказала бабушке:
– Главное, чтоб они выросли людьми. Не как он.
И замолчала. Как обрубила.
Он не стал спрашивать, кого имела в виду. Всё и так было ясно.
После отъезда отца бабушка и дед стали якорем. Нет – корнями. Бабушка, тонкая, строгая, с тугим пучком на затылке, умела ставить на место одним взглядом. Но её любовь была не громкой. Она проявлялась в еде, в накрахмаленных наволочках, в выстиранных носках, аккуратно разложенных на батарее. Она не обнимала каждый день, не говорила нежностей. Но если Лёша приходил с поцарапанной щекой или тихим лицом, она кивала, ставила на стол пирожок, наливала чай и говорила:
– Ешь. Потом поговорим.
А иногда – даже не говорила. Просто садилась напротив.
С ней рядом жизнь казалась не такой колючей. Когда она гладила Лёшу по макушке – ладонью сухой, но нежной – всё, что болело внутри, как будто отступало на шаг. Она не задавала лишних вопросов, не говорила: «Перестань», когда он грустил. Она просто садилась рядом и молча была рядом. И это было сильнее любых слов.
Дед был другим. Молчун, работяга, пахнущий маслом, землёй и железом. Он мог починить всё, что угодно – кроме, разве что, семей. Он редко вмешивался в разговоры, но его присутствие ощущалось везде. В натянутой бельевой верёвке, в прибитом крюке для ведра, в рубанке, заточенном до зеркала. Он не делал лишних движений. Даже когда Лёша впервые поранился молотком, дед просто посмотрел, забрал доску и сказал:
– Не спеши. Спешка гвозди гнёт.
А ещё у него был удивительный навык: он умел молчать так, что в этом молчании был смысл. Ни осуждения, ни пустоты. Просто тишина, которая обволакивала и давала опору.
Старший брат Ваня был другим. Совсем другим. Словно он родился уже взрослым. Не в смысле возраста – в смысле внутреннего устройства. Ваня всё знал заранее. Когда нужно уйти, когда промолчать, как не обидеть, как выстоять. Он никогда не ныл, не жаловался, не спрашивал. Даже если было больно, просто сжимал губы и делал, что нужно.
Он стал взрослым в тот момент, когда отец ещё только начал уходить. Ваня, кажется, понял это раньше всех. Не словами – спиной, тишиной в глазах. Он не стал задавать вопросов. Просто стал вставать раньше мамы, встречать её с ночной смены, помогать Лёше с портфелем, сам шёл в магазин, сам возвращался, сам укрывал маму пледом, если она засыпала в кресле.
Ваня был как бы не частью семьи, а её хребтом. Тихим, надёжным, прочным. Его слушались. Даже бабушка иногда оглядывалась на него, как на мужчину, хоть ему было всего одиннадцать. И это не казалось странным.
Лёша смотрел на него снизу вверх – не из-за роста, а потому что рядом с ним всё казалось упорядоченным. Ваня знал, как надо. И это давало ощущение направления. Как стрелка на компасе.
В школе Ваню обожали. Учителя ставили в пример, называли гордостью. Он всегда делал всё вовремя, аккуратно, вдумчиво. Его тетрадки пахли карандашной стружкой и правильными решениями. Он не отвечал на показ. Он просто знал. Иногда казалось, что он не учит – он просто берёт знание с полки внутри себя.
А потом взгляд переходил на Лёшу.
– А ты, Лёша… ну постарайся хоть немного. Будь как Ваня, – говорили ему.
Но Лёша не был как Ваня.
Он не был «примером». Он мог задуматься на середине задачи, потому что увидел, как солнце играет на парте. Мог не дописать сочинение, потому что задумался о том, почему дерево шуршит именно так. Мог забыть про урок, потому что читал комикс, а потом – улетел в свой выдуманный мир.
Он не бунтовал. Не пытался доказать, что он не хуже. Просто был другим. И чем чаще ему говорили: «Смотри, как Ваня», тем глубже внутри он ощущал: «А я не Ваня». И не стану.
И не хотел.
Найда, их дворняга, была как светлая пауза среди всех тревог. Рыжая, как осенний лист, с белой грудкой и глазами, в которых отражалась вся честность мира. Она была не просто собакой – она была союзником. Молчаливым, чутким, всегда на стороне семьи.
Если кто-то из родных возвращался домой, Найда слышала шаги раньше, чем стук в дверь. Она взвизгивала, бросалась к порогу, виляла хвостом, будто хотела втиснуть всю радость мира в одну минуту.
Если дома становилось тревожно – она замирала. Ложилась у двери, прижималась к полу, следила. Ни звука. Только глаза, в которых жила беспокойная верность.
Лёша обожал её. Он делился с ней тем, чего не говорил даже бабушке. Ложился рядом, гладил тёплый бок, чувствовал, как под ладонью поднимается и опускается дыхание. Иногда он говорил вслух – о том, что чувствует, чего боится, чего не понимает. Найда не перебивала. Она слушала. Так, как умеют слушать только те, кто никогда не скажет: «Ну ты сам виноват».
Она однажды сама нашла его, когда он сбежал в сарай – после очередной ссоры с Ваней. Лёша тогда решил, что уедет. Насовсем. Сидел в темноте, дрожащими пальцами нащупывал фонарик и печенье в рюкзаке. А потом – скрип двери, тихие шаги, и – она. Без лая, без прыжков. Просто легла рядом. Прижалась. Глаза на уровне его лица. В них – ни упрёка, ни жалости. Только: «Я рядом».
И этого не нужно было объяснять.
По воскресеньям они устраивали «чай после обеда». Это не был обряд – просто привычка. Дед доставал свой старый приёмник, щёлкал крутилкой в поисках хоть какого-нибудь голоса. Бабушка ставила на стол тёмный заварной чай, варенье из вишни и свои знаменитые пироги – с капустой или картошкой. Мама садилась рядом, не снимая халата, с усталостью в каждом движении, но с такой родной, домашней усталостью, которая делает человека живым. Ваня листал книгу, не отрываясь. Лёша тихо ел, вслушивался в радио и думал, что если в мире есть настоящее, то оно вот здесь – в этом моменте. В запахе пирога. В шорохе пледа. В том, как Найда хрюкает во сне под столом.
Глава 2. Свой – чужой.
Школа не сразу впустила Лёшу. С порога – как чужого. Как будто чувствовала в нём что-то не то: не по форме, не по стандарту. И он её не принимал – не потому что хотел бунтовать, а потому что не мог заставить себя быть там, где на тебя смотрят сквозь. Первые дни, недели – как в вязком тумане. Всё чужое. Шум звонков, запах мела, коридоры, вытянутые в вечность. Он ходил в школу, как будто в поход через болото: медленно, с натугой, не чувствуя, что его ждут.
Учительница младших классов, строгая, сухощёкая, в старом платье с перетянутой талией, – когда-то учила его отца. И в Лёше, кажется, видела не просто ученика, а продолжение истории, которую не хотела переписывать. Не как «новую страницу», а как испорченную копию. Она не кричала, не ругала открыто. Она просто умела смотреть. Так, что Лёша сжимался внутри. Этот взгляд говорил без слов: «Ты не тянешь. Ты из тех, кто с самого начала – лишний». Он ещё не знал, как формулируются сомнения, но уже чувствовал – с ней он не выправит ни строчки.
И всё же нужно было где-то опереться. Где-то дышать. В школе не все были сдержанны, как учителя, не все смотрели поверх головы. Так он нашёл Даню.
Даня был старше на год, но учился с ним в одном классе. Рослый, с широкой спиной, с голосом, который уже ломался – звучал то глухо, то резко, как поцарапанная пластинка. Он не боялся ничего. Когда учитель задавал с вызовом – Даня отвечал, не моргнув. Когда старшеклассник шёл навстречу с намерением зацепить – Даня смотрел в упор, и тот сворачивал. Он был как из стали, но из той, что не режет, а ведёт за собой. Лёша тянулся к нему – не потому, что хотел быть таким же, а потому что рядом с ним было место, в котором можно было дышать свободно.
Даня не задавал вопросов. Не интересовался, кто и откуда. Он просто принял – «ты со мной». Так, будто это не требовало объяснений. Вместе они исследовали город с изнанки: лазили на заброшенные строительные краны, спускались в подземелья старого теплотракта, курили первые сигареты в вентиляционной шахте, от которой пахло железом и дождём. Однажды они нашли проржавевшую дверь, ведущую в подвал давно закрытого магазина, и провели там весь вечер, разглядывая паутину, как звёздную карту.
Иногда они бегали за мячом до потемнения неба, иногда просто сидели на крыше пятиэтажки, свесив ноги и молча глядя вдаль. Не нужно было говорить вслух – в этом и была дружба. Не объяснять, а быть рядом. Без условий. Без расписаний.
В учёбе Лёша держался выборочно. Там, где нужно было двигаться – он был живым. Физкультура – его стихия. Прыжки, эстафеты, лазание по канатам – всё давалось с лёгкостью, как будто тело само знало, как ему быть. Рисование тоже цепляло – он любил, когда можно уйти в линии, в цвета, когда можно не думать о правилах. А вот литература была для него испытанием: слишком много чужих эмоций, слишком мало воздуха. Там нужно было «чувствовать» то, что чувствовал кто-то другой – как будто тебя заставляли носить чужую кожу.
С математикой – наоборот. Она давала опору. В ней всё складывалось, как кирпичи в крепостной стене. Два плюс два – и ты в безопасности. Там никто не требовал душу. Там нужно было лишь знать, запоминать, понимать. Учительница математики – строгая, но не злая – однажды, проверяя тетрадь, сказала без иронии:
– Вот, Лёша у нас голова.
И он запомнил это надолго.
Мама потом добавила: – Она мальчиков любит, особенно сообразительных. Но ты не расслабляйся.
Он и не собирался. Он не гнался за пятёрками – ему нужны были точки опоры. А математика стала одной из них.
А потом пришёл Данин компьютер.
Сначала это была просто железка с экраном. Неинтересная, шумная, с ламповым светом и странными щелчками при включении. Даня показал Лёше, как запускать игры. Показал, как двигать мышкой, куда нажимать. И в первое время ничего не изменилось – всё было, как прежде. После школы они гоняли мяч, искали тайники во дворах, устраивали засады на кошек с самодельными рогатками. Компьютер был просто новой игрушкой. Одной из. Лёша относился к нему без пиетета. Но Даня – нет. В нём что-то переключилось.
С каждым днём Лёша замечал: друг стал задерживаться дома дольше. Теперь он не выскакивал на улицу первым. Не звал с лестницы. Всё чаще – «подожди, я доиграю». Всё реже – «пошли на крышу». Лёша приходил к нему домой, садился рядом, ждал. Иногда смотрел на экран. И не понимал, что именно там держит Даню. Никакой живости – одни пиксели. Но Даня был увлечён. Его затягивало внутрь – в звуки стрельбы, в бегущие циферки, в жаргон, который Лёша не знал.
– Фраг, пинг, лаги, – бормотал Даня, смеясь с другим пацаном, что всё чаще появлялся у него дома. Они говорили быстро, сбивчиво, на чужом языке. Лёша пытался вникнуть. Пытался сидеть рядом. Но чувствовал себя мебелью. Он становился невидимкой.
Однажды Даня даже не повернулся, когда Лёша вошёл.
– Ща, ещё катка, – сказал, не отрываясь от экрана.
Лёша сел, молча. Смотрел, как они играют вдвоём. Слышал, как смеются. И вдруг понял: он здесь лишний. Не потому что прогнали. А потому что не позвали.
Он ушёл не сразу. Сначала сидел, слушал, пытался быть частью этого. А потом – как будто в груди что-то сместилось. И всё. Он не стал прощаться. Просто поднялся и вышел.
И в тот вечер не пошёл домой. Пошёл к бабуле. Та встретила, как всегда, молча. Накрыла на стол, поставила чай. Домашний пирог. Плотный, сладкий, с повидлом. Лёша ел медленно, глядя в скатерть. Пальцы гладили край кружки. Бабуля не спрашивала. Она просто сидела рядом и перебирала чётки – не церковные, а свои, привезённые с базара, деревянные, с запахом сушёных трав.
Потом он вышел на балкон. Смотрел в сторону холмов. Они были неподвижны. Как будто их не трогает ни время, ни люди, ни потери. Он стоял долго. И думал: если идти – прямо, через дворы, через пустыри, через трассу – можно ли добраться до такой же тишины внутри?
Он не задавался вопросами вслух. Но мысли шли сами. Почему Даня выбрал другого? Почему он, Лёша, оказался тем, от кого отворачиваются? Он ведь не предавал. Он был рядом. Всегда. Он верил. А теперь – пустота. Не злость. Даже не обида. А как будто внутри отрезали целую часть.
Эта пустота начинала звучать в нём. В классе, на физкультуре, дома. Он не делился ни с кем. Но молчание становилось тяжёлым. Как будто ты кричишь – беззвучно.
И всё же он не жаловался. Он просто стал чаще ходить к бабуле. Там была пауза. Там не нужно было объяснять, почему ты не идёшь гулять. Почему не звонишь первым. Там можно было просто сесть, уткнуться в подушку и не двигаться. А бабуля гладила по голове и говорила:
– Ну ты же у меня, Лёшка… ты всё пройдёшь.
Он не был уверен. Но её голос звучал так, будто она знала. И в такие вечера ему становилось немного тише внутри.
Прошло какое-то время. Всё стало иначе, но Лёша не сразу это заметил. Сначала казалось – Даня вернулся. Они снова гуляли вместе, смеялись, делали вид, что ничего не случилось. Шли через двор, как будто ничего не треснуло между ними. Но внутри Лёша уже знал: трещина осталась. Это был не возврат, а затишье. Пауза. Он чувствовал это всем телом – как будто находился в доме с тонкими стенами, за которыми вот-вот снова кто-то хлопнет дверью.