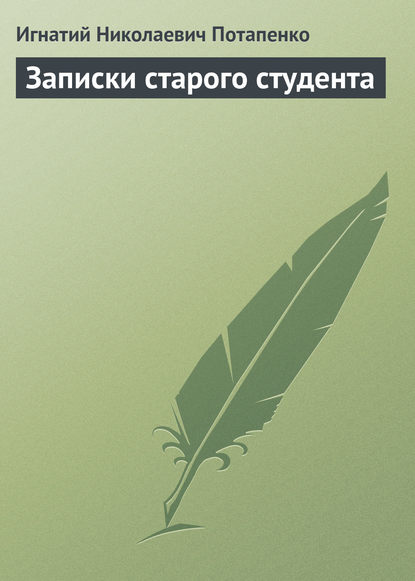По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Записки старого студента
Год написания книги
1889
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну, – говорил он товарищам. – спасибо, что пришли. Вы меня этим тронули… До глубины души тронули…
Товарищи явились в университет с известием, что объявленная в газете покойница оказалась женой Леонтия Степановича Кожевкина.
– Гм. Странно! – говорили все друг другу. – У него была жена! Удивительно! Никак нельзя было подозревать.
На другой день целая гурьба студентов отправилась в отдалённый переулок, наполнила комнату и часть двора. Посторонняя публика, присутствовавшая на отпевании, и духовные лица с изумлением осматривались и как бы спрашивали: почему это у Кожевкина такое множество студентов? Они и на самого Кожевкина посматривали теперь с сомнением. Знали они его за человека с неопределёнными занятиями, который кое-как перебивался, то ходатайствуя у мирового судьи, то сочиняя деловую бумагу. Но теперь они начали сомневаться в том, что действительно знают его. Да кто он такой, наконец, этот Кожевкин? Уж не профессор ли какой-нибудь?
А Кожевкин смотрел на своих молодых гостей с каким-то грустным умилением. Он глубоко скорбел по поводу потери жены, которую, в самом деле, каким-то особенным образом любил; но в то же время его самолюбие было польщено честью, какую ему сделали студенты. И трудно сказать, какое чувство преобладало в нём в это время.
В одной из комнат своей квартиры он приготовил чай. Он зазывал туда товарищей, угощал всех, и каждую минуту, так как к нему подходили всё новые, он говорил:
– Да, братцы, это была не женщина, а ангел! Да, она была настоящий ангел! И я вам так обязан, так обязан!.. Благодарю вас, господа. Вы сделали мне честь, я никогда этого не забуду.
Студенты всё прибывали, а когда стали выносить гроб, их набралось больше двух сотен, и все провожали жену Кожевкина на кладбище. По дороге составился импровизированный хор. По улице медленно тянулась странная процессия. Средства Кожевкина не позволяли взять приличный катафалк. Гроб везли на простых дрогах; за ним следовало несколько родственников, в числе их сам Леонтий Степанович с поникшей головой, и потом длинный ряд молодёжи. Прохожие останавливались и с почтением смотрели на процессию.
III
Нескоро появился среди товарищей Кожевкин. Он прибежал только недели через две, посидел с полчаса в портерной и торопливо убежал. Он даже не успел поговорить о том, что всех так интересовало, и о чём, однако ж, никто не решался его спрашивать.
Но однажды он пришёл спозаранку, и сам, без всяких расспросов, начал изливать душу.
– Эх, – говорил он. – Вот сижу я среди вас, как и прежде, а всё уж не то, – нет, не то.
– В чём же перемена, Леонтий Степанович? – спрашивали его, рассчитывая таким образом, что вызовут его на откровенность.
– Большая перемена! Такая перемена, как будто я был тогда один человек, а теперь стал другой. Эх, вы не знаете, что такое была для меня покойница. Женился я, друзья мои, когда был ещё совсем молодым человеком. Видели, какая она была в гробу? Вот такая она была и тогда. Худая да бледная, и сама маленькая такая, а глаза – одна грусть. Бывало, взглянешь в эти глаза, и самого грусть заберёт. И какая грусть! Это не то, что её там кто-нибудь обидел, или в жизни была неудача или потеря какая-нибудь. А грусть за всё и за всех людей… Есть такие души, особенно женские… Кажется, вот то и это никакого касательства к ней не имеет и случилось за тысячу вёрст, или, так сказать, на другом полушарии, а она печалуется и вздыхает. Да. Так вот я и женился на ней. Может, от этой самой грусти женился. Средств у меня не было никаких, а у неё тоже, и образованием я не вышел… Так, два класса гимназии прошёл, вот и всё. А тут пошли дети, – один за другим. Сперва девочка, а потом мальчик, а потом опять девочка и опять мальчик, так и шло, как бы по очереди. Вертелся я кое-как, разные делишки доставал, – то бумагу перепишешь, то порученьице какое-нибудь устроишь, а она шить умела и всё шила, шила да шила, день и ночь за шитьём сидит… Бывало, младенца родит, неделю полежит в постели, и глядишь, уже привстала на кровати и дошивает начатую рубашку… И никогда я от неё упрёка не слышал. Да и вообще мало я от неё слышал. Редко говорила она, всё больше молчала и думала. А о чём, никак я этого узнать не мог. Только прожил я этак с нею лет шесть, всё больше в молчании, а там вдруг меня тоска забрала. Женщина она была идеальная, а только при моей подвижной натуре не мог я обходиться без общества. Тянет меня куда-нибудь вон из дому, а боюсь, боюсь огорчить её, потому ангел она была! И что же вы думаете? Она это прозрела. Она своим любящим оком проникла, можно сказать, в самую глубину души. И вот однажды смотрит на меня и говорит: «Зачем ты, – говорит, – скучаешь?» – «Что ты, – говорю, – Манечка? Как можно?» – «Нет, говорит, меня не обманешь, я по глазам вижу, – тебе скучно!.. И ты, – говорит, – мне не лги, потому что я, всё равно, не поверю; а только напрасно обидишь меня». Вот и подите. Я вам говорю, покойница была замечательная женщина! Она была герой. Это была женщина-герой… Вот как бывают женщины-врачи, так она была женщина-герой… «Да и ты, – говорит, – не думай, что это может меня огорчить. Нет, – говорит, – меня больше огорчит, ежели я буду видеть, как ты скучаешь тут, дома. Иди, – говорит, – туда, где тебе весело будет». – «Как же, – говорю я, – Машенька, я пойду, а ты будешь одна дома сидеть? Тебе будет скучно!» А она мне в ответ: «Это, – говорит, – ничего не значит. Я женщина, а ты мужчина. Мужчина не может сидеть дома. Женщина должна возиться с детьми, с кухней и прочее, это уже так Богом устроено; на женщине лежит весь дом, а мужчина, если он постоянно будет при семье, так он непременно сбежит. Ты, – говорит, – не смотри, что я такая молоденькая; я много видела, и оттого у меня в голове разные мысли есть. Я знаю много примеров. Отчего мужья так часто покидают своих жён, изменяя им. Да вот именно оттого, что их заставляют постоянно дома сидеть. Нет лучшего средства отвратить мужа от семьи, как держать его при себе. А ты лучше с людьми побывай и, как побудешь без нас, так тебя к нам и потянет».
И она прямо посылала меня, уходи, уходи, иди к своим друзьям, посиди вечерок. Ты любишь общество, у тебя много друзей… И как она была права! В прежнее время, когда я сидел дома по целым дням и вечерам, на меня нападала тоска, и являлись мысли, которых я ей никогда не высказывал, да и никому: эх, бросить всё, да укатить куда-нибудь, в Америку, что ли! Да, вот какие мысли! А как только стал я проводить время вне дома, так, я вам говорю, где бы я ни был, как бы ни было мне весело, а с каким наслаждением я приходил домой, как меня тянуло к своим пенатам!.. Да, я вам скажу, умная женщина была покойница, знала человеческое сердце и умела жертвовать… И теперь уж, знаете, другая жизнь пойдёт у меня. Уж некому за детьми смотреть, придётся самому. Скучно будет, да что делать! Дочка старшая, она, хотя и добрая, и говорит: «папа, это, мол, не твоё дело, это моё дело…» А не могу же я засадить её, молодую, за такое скучное дело. У неё подруги есть, ей хочется погулять, и то и сё.
Месяца через два он стал появляться чаще, а потом его стали встречать в портерной каждый день. Он появлялся и в университете, и на сходках, и всё пошло по-прежнему.
– А как же дети ваши? – спрашивали его, помня те речи, которые он говорил вскоре после похорон.
– Дочка при них! – отвечал Леонтий Степанович. – Я, конечно, не позволял ей, говорил: «Как можно! Тебе будет тяжело!» А она – ни за что не хочет. «Иди, – говорит, – папа! иди». У неё, знаете, такой же характер, как у покойницы; она тоже героиня.
– А вы, Леонтий Степанович?
– Ну, я какой же герой! Я слабый человек, не более! – отвечал Кожевкин.
Два дня
Очерк с натуры
Удивительно быстро наступает вечер в конце зимы на одной из петербургских улиц. Только что был день, и вдруг стемнело. В тот день, с которого начинается мой рассказ – это было на первой неделе поста, – я совершенно спокойно сидел у своего маленького столика, что-то читал, пользуясь последним светом серого дня, и хотя то же самое было во все предыдущие дни, чрезвычайно удивился и даже озлился, когда вдруг увидел себя в полутьме зимних сумерек. Дело в том, что в прежние вечера в подобных случаях я сейчас же зажигал свечу, и сумерки для меня не существовали. В этот же вечер, по тщательном исследовании, оказалось, что накануне сгорел не только последний огарок, но даже как будто подгорел медный подсвечник, покрытый зелёным слоем каких-то химических соединений, которые все может назвать и определить Каллистрат Иванович. Я очутился во мраке. Когда у меня нет дела, я имею привычку, заложив руки за спину, бродить из угла в угол. Но как только я принялся за это занятие, мне тут же стало ясно, что оно представляет множества неудобств и скорее похоже на самый тяжёлый труд, чем на отдых. Углы моей комнаты так близко отстояли один от другого, что не успевал я сделать двух шагов, как уже приходилось поворачивать назад. Кроме того, в комнате были кое-какие усложняющие обстоятельства, которые ещё более затрудняли мою прогулку.
Нельзя было пройти мимо высокого угловатого комода, украшенного тремя коробками, в которых некогда помещалось по четверти табаку в каждой, – чтоб не зацепить его. При этом инвалид-комод непременно хромал на одну ногу, так как у него исправных было только три, и всякий раз словно считал своим долгом наклониться, как будто прибавляя при том: «Pardon, monsieur». Вежливый комод оттого, впрочем, наклонялся с такою лёгкостью, что он был совершенно пуст и, как ненужная вещь, должен был заискивать у своих хозяев, чтоб его не вытащили вон. Большое препятствие представлял также единственный стул, который всякий раз нужно было переступать, потому что отодвинуть было некуда. Что же касается коротенькой железной кровати и кое-чего, носившего название дивана, которые стояли рядом, так что одна служила продолжением другого, они, по-видимому, благонамеренно занимали свои места и не предпринимали против меня никаких ухищрений.
Впотьмах, когда нет ни малейшего желания заснуть, в голову обыкновенно приходят целые вереницы мыслей. Разные бывают эти мысли, смотря по тому, на чьих плечах помещается голова. Всякому видится своё, особенное. Что же касается меня, то хотя я и не имел ни малейшей причины веселиться, в голову мою лезли самые весёлые мысли. Не подумайте, пожалуйста, что эти мысли были гражданского свойства, что я думал о судьбах моего отечества или что-нибудь в этом роде. Нет, я считал себя слишком маленькою дробью в общем великом числе, и просто-напросто думал и был уверен в том, что Каллистрат Иванович, возвратясь из клиники, принесёт с собою полфунта колбасы и столько же хлеба – вот причина моего весёлого настроения. Откуда проистекала моя уверенность, этого я не могу сказать. По крайней мере у меня было гораздо больше данных думать совершенно противное. Но дело в том, что мне этого ужасно хотелось, а легковерные люди уверены именно в том, чего им хочется, я же, нужно вам сказать, человек легковерный. Я знал, что у Каллистрата Ивановича денег нет и не будет, и тем не менее был уверен в том, что он принесёт колбасу. Дело в том, что мы с Каллистратом Ивановичем…
Но вы не знаете, кто это Каллистрат Иванович. Каллистрат Иванович был ни больше ни меньше как студент медико-хирургической академии. Большую часть дня проводил он в подвалах профессора Грубера, вследствие чего от него вечно несло «анатомией», как деликатно выражалась Марья Карловна, наша квартирная хозяйка. Вы понимаете, что «анатомия» здесь употреблена в смысле обыкновенной мертвечины, которой главный склад находится на Выборгской стороне. Нрава Каллистрат Иванович был кроткого и, как кроткие люди, после обеда любил пофилософствовать, что в последнее время, впрочем, делал очень редко, так как редко обедал. Он был замечателен тем, что, кроме двух воротничков и одной пары манжет, ничего своего не имел; это давало ему повод сокрушаться, что у него слово расходится с делом, «ибо говорил он, я собственность признаю, на деле же собственности не имею». Платье, сапоги и плед он носил чужие, хотя решительно не мог сказать, кому именно что принадлежало. Кроме упомянутых воротничков и манжет, у него была ещё пара бакенбард, совершенно белых, которые он считал своей неотъемлемой собственностью и ни за что не хотел сбрить их, дабы, по его словам, лишившись этой движимости, окончательно не превратиться в пролетария.
Так вот, с этим-то Каллистратом Ивановичем мы, можно сказать, наполняли ту маленькую комнату, которую я только что описал. С ним поочерёдно сидели мы на нашем единственном стуле и поочерёдно прохаживались по комнате, так как во время прогулки одного из нас другой непременно должен был лежать в кровати.
После десятиминутной борьбы с препятствиями, я почувствовал сильную усталость и даже ощутил выступивший на лице пот. Мне оставалось лечь на кровать: если не считать уже достаточно насиженного стула, другого исхода не было. Я так и поступил. Не успел я почувствовать некоторую охоту ко сну, как послышался звонок, затем шипящие шаги Марьи Карловны, звук отпираемых дверей, наконец, в комнату вошёл Каллистрат Иванович. Я его, конечно, не разглядел впотьмах, но тем не менее с уверенностью мог сказать, что это был он. К людям, к которым мы привыкли, мы становимся крайне чутки, мы распознаём их по походке, в тишине по звуку дыхания и ещё мало ли по чему, а чаще всего распознаём бессознательно. Притом же неразлучный с Каллистратом Ивановичем запах «анатомии», хотя я и привык к нему, всё-таки был мне доступен. Словом – я почувствовал присутствие Каллистрата Ивановича, но своего присутствия не проявлял, желая посмотреть, что он предпримет во мраке. Пусть это похоже на ребячество, но я должен признаться, что это меня очень занимало. Прежде всего он зажёг спичку и увереннейшим образом поспешил к подсвечнику, но в ту же минуту был разочарован. Видя его недоумение и комическую досаду, я не выдержал и расхохотался.
– Послушай, неужели у нас нет свечи? – спросил он тоном такого удивления, как будто это совершенно небывалая и невозможная вещь.
Это рассмешило меня ещё больше.
– Что тут смешного, не понимаю! – злился Каллистрат Иванович. – Неужели мы будем сидеть впотьмах?
– Конечно, если по какому-нибудь торжественному случаю солнце не взойдёт прежде времени, – ответил я, продолжая смеяться.
– Чёрт знает, что такое! У меня завтра экзамен у Грубера… Я должен целую ночь заниматься! – угрюмо заявил Каллистрат Иванович, садясь у стола на диван. Минуты две мы помолчали.
– Экую я глупость сделал! – заговорил он опять, почёсывая голову. – Представь, брат, у меня было четырнадцать копеек. Иду, знаешь ли, вот здесь на углу Литейной и Захарьевской – газетчик соблазнил, купил газету за семь копеек. Теперь вот изволь читать её впотьмах. Лучше бы за те же деньги купить свечу.
– А остальные семь? – спросил я с таким интересом, как будто дело шло о тысячах.
– Да остальные целы, вот они!
При этом он торжественно выбросил на стол свои семь копеек.
– Да что в них толку! – жалобно прибавил он.
– Свечу можно купить.
– Конечно. Но знаешь ли, я сегодня кроме воздуха ничего ещё не принимал внутрь и, признаюсь, чувствую такой аппетит, что, кажется, съел бы всё.
– Так ты боишься, что не донесёшь свечу из лавки, съешь на дороге?
– Да не то! А знаешь ли, во мне происходит борьба. Свечу купить, или хлеба на семь копеек? Того я другого никак нельзя. А ведь ты тоже, должно быть, ничего не ел сегодня?
– То-то и есть, скажи ты мне, с чего это ты вздумал покупать газету? Кажется, можно было понять, что при таких обстоятельствах все эти культурные потребности следует к чёрту… А я был уверен, что ты принесёшь колбасы.
– Ну, брат, о колбасе ты мог бы отбросить всякие мечты, – решительно заговорил Каллистрат Иванович, – и что в ней хорошего? Одни трихины и больше ничего. Самое безопасное – это хлеб.
– Потому что самое доступное. Я думаю, что если б тебе сказали: вот колбаса, начинённая трихинами, ты проглотил бы и её.
– Знаешь, что я тебе скажу: не упоминай ты, ради Бога, о колбасе! Ну, как же быть с нашим капиталом?
Вопрос действительно представлялся серьёзным. Едва ли дипломат когда-либо находился, в таком затруднительном положении, как я в ту минуту. Я знал очень хорошо, что если Каллистрат Иванович не будет заниматься ночью, то завтра не выдержит экзамена. С другой стороны голод начинал не на шутку пронимать меня, чувствовалось действительно нечто вроде сжимания сердца, чему способствовало воспоминание о колбасе.
– И к чему было покупать газету! – озлился я наконец, не находя исхода.
– Да видишь ли, сегодня газеты должны быть интересны, судя по предшествовавшим событиям, – говорил Каллистрат Иванович, как бы оправдываясь передо мной, – притом же я совсем позабыл, что вчерашний огарок кончился, и рассчитывал на эти семь копеек купить хлеба.
– Вот что сделаем, – наконец, предложил я, – можно купить за три копейки сальную свечку, и на остальные четыре – фунт чёрного хлеба.