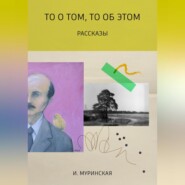По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
То о том, то об этом. Рассказы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Женщина оторопела и убрала телефон. («Перезвоню…»)
– Вы что делаете?
– Что надо, то и делаю!
– Больная!
– Это ты больная, приехала…
– Да…
– Я не хочу слушать ваши «аллилуйи»!
Последнюю фразу бабка Анюта произнесла очень громко, преувеличенно отчетливо, почти по слогам.
– Ты нее имеешь права оскорблять…
– Имею право оскорблять! Ещё не наши, ещё тут командуют…
– Я гражданка Российской Федерации!
– Ой, да… Ну… не нашего города!
– Нашего! Я тут прописана и квартиру я тут купила!
– Приехали сюда и купили квартиры!
– Купила, да! Какое твоё дело? Больная…
– Это ты больная, приехала! А я здоровая, я здесь живу!
Саяра решила больше не спорить, тем более ей было пора выходить. Впечатление от случившегося она почти сразу с себя стряхнула. Дома её ждала больная мать, примерно такого же возраста, как бабка Анюта. Когда Саяра зашла в комнату, она сидела в кресле с пультом в руках и закрытыми глазами. Засыпала она всегда с пугающим видом – как будто при таком положении её рот уже должен был широко открыться, но в силу какого-то внутреннего усилия оставался закрытым, странно удлиняя нижнюю часть лица, делая его почти неузнаваемым, чужим. Саяра разбудила её, заставила съесть немного супа, помогла сходить в туалет и снова отправилась на улицу, выгулять Джека, белого бультерьера с чёрными носочками.
Солнце садилось. Саяра порадовалась про себя, что надела пальто – вечера всё ещё стояли холодные. Она любила гулять с Джеком, могла пройти пешком целый километр. Оказавшись неподалёку от трамвайных путей, она услышала шум из человеческих голосов. Подойдя поближе, она обнаружила беспорядочную толпу, очевидно, собравшуюся вокруг чего-то посреди дороги. Саяра протиснулась к центру. На рельсах лежало окровавленное тело женщины. Её голова была повёрнута лицом вниз. У неё были подстриженные под каре волосы пшенично-серебристого оттенка.
Шахматы
Сегодня утром снова сидела в парке. Одна. Одна в том смысле, что никто не пришёл сюда со мной намеренно, не сказал: «Эй, Серафима, пойдем вместе в парк». В некоторых других смыслах одна я, конечно, не была. Например, на втором часу я заметила, что кто-то пробежал мимо моей скамейки. То ли крыса, то ли ребёнок. По звуку было больше похоже на крысу. (Я очень хороша в определении вещей и событий по звуку. Когда приходилось укладываться спать вместе с другими детьми, я всегда могла безошибочно установить, кто из воспитательниц приближается снаружи к закрытой двери, чтобы нас разбудить или проведать.) По размеру же скорее напоминало ребёнка. Возможно, то был ребёнок, который изображал крысу. Или просто очень большая крыса. Обычно, когда дети играют в животных, они делают это согласно тому, что внушили им взрослые. Но этот ребёнок (если остановиться на второй версии) был чрезвычайно самодостаточен. Ему удалось изобразить ту особую крысиную грацию, которую не замечают крысофобы. Чтобы её заметить, необходимо воспринять крысу целиком и непременно в движении. Её сердцевина, апогей, так сказать, заключён, пожалуй, именно в звуке – в том едва уловимом шлёпанье, которое издает крыса, когда отталкивается своими подвижными розовыми пальчиками от земли во время бега. Как бы то ни было, я не повернула головы, чтобы получше рассмотреть того, кто пробежал мимо моей скамейки. К этому моменту я достигла той редкой невесомой неподвижности, которую в последнее время стала очень ценить. Полная статичность похожа на очень быстрое движение. Раньше это движение я могла бы описать как стремительное падение. Теперь же это было скорее неспешным плаваньем вниз по течению. Однажды мне приснилось, что я сижу на плоту, несущем меня по быстрой прозрачной реке, и вдруг отчетливо различаю на дне огромную переливчатую жемчужину. Я опускаю в воду руку, чтобы достать её, но делаю это слишком поздно, и жемчужина остается позади, навсегда потерянная. Я вскрикиваю от горя, хватаюсь в ужасе за голову, а через несколько секунд думаю: на кой чёрт мне была нужна эта дурацкая жемчужина?
Первое, что я вижу, когда отвлекаюсь от письма и смотрю в окно, – это другие окна; такие же, как то, сквозь которое смотрю я, но совершенно отличные от него из-за моего относительно них местонахождения. В детстве у меня был пластиковый конструктор, из которого можно было собирать дома. Больше всего мне нравились в нём прозрачные детали, которые имитировали стёкла. Теперь я спрашиваю себя: нравились ли мне эти детали потому, что они были похожи на окна? Или же окна мне нравились оттого, что напоминали об этих деталях? Иногда, солнечным днём, какое-нибудь из этих далеких окон открывают (или закрывают), и на мгновение оно принимает такое положение относительно солнца, что вся комната наполняется оглушительно яркой вспышкой отражённого света.
В дверь постучали. Это была Симона. Я знала, что это была она, потому что, во-первых, стучала она всегда на один и тот же, нахально-решительный манер, а во-вторых потому, что больше никто ко мне никогда и не стучал. Почти никогда. Когда заносили последние вещи, эта корова чуть ли не внутрь сунулась. Как к себе домой. Луиза посмотрела тогда на неё так, как смотрят подруги-мамаши на славно поладивших между собой детей. Почему-то считается, что дети и старики должны непременно сойтись, оказавшись сидящими за одной школьной партой или, вот, живущими в соседних квартирах. Несправедливо и для тех, и для других. У меня с этой тучной скотиной ничего общего нет и быть не может.
– Симочка, это я!
Приносит вечно своё это сливовое варенье в липких пиалках. «Симочка». Потребовалось немало времени, чтобы я смирилась со своим наименованием, даже с различными его формами. Грегор придумал называть меня «Фимой», это было как получить новое имя без необходимости отказываться от старого. Но «Симочка» – это выше моих сил. Притвориться, что никого нет? Тогда вернётся позже, нет. Открыть сразу и перетерпеть. Когда всё кончится, обнаружить на своём лице глупейшую улыбку, а в своих руках – липкую пиалку. Сливовое варенье, вообще-то говоря, мне нравится. Не стоит переносимых за него мук, но смягчает их. Что-то неизбывно трогательное есть в намазанном сливочным маслом ломте батона с растекающимся по нему вареньем. И даже Симона не способна этого испортить.
Луиза – это моя дочь. Она редко меня навещает, но я этому даже рада. Между нами всегда была какая-то неловкость. Даже когда она была ещё совсем маленькой девочкой. Никто об этом со мной не говорил, но все это замечали, замечают до сих пор, я знаю. А с Грегором ей всегда было хорошо. Я даже ревновала его к ней тогда, вначале. Странно, что не наоборот. То, что кого-то ещё моя дочь предпочитает мне, совершенно меня не волновало.
Предвечернее время нагоняет на меня тревогу. Раньше в такие моменты я обычно звала Грегора на прогулку, Грегор соглашался (он вообще почти всегда поддерживал мои идеи), и это превращало её в ощущение праздника. Теперь я отправляюсь на улицу одна. Так же, как делала до встречи с Грегором, только не могу уже пройти столько же, сколько могла тогда. Теперь мне то и дело требуется перевести дух, присесть отдохнуть. Продолжительность этого отдыха равняется примерно одной трети продолжительности предшествующей ему ходьбы в первые полчаса и увеличивается до трех четвертей на часах третьем-четвертом. Так что разнообразия в моих маршрутах поубавилось – приходится планировать их так, чтобы на пути непременно встречались скамейки. Теперь мне стало ясно, почему в парках и на бульварах так много стариков.
Грегор никогда на моей памяти не играл в шахматы, но когда мы проходили мимо местного шахматного клуба, всегда с характерным оживлением задерживал на нём взгляд, и на лице его в этот момент появлялось то трудное для описания выражение, которое обычно вызывают невозвратно ушедшие в прошлое дорогие вещи. Я знала, что в этом шахматном клубе Грегор никогда даже не бывал, как и в любом другом шахматном клубе. Он и в шахматы никогда не играл. Просто в результате какой-то сложной и запутанной ассоциативной игры этот шахматный клуб стал для него символом доброй, мирной, благоустроенной жизни, средоточием тихого интеллигентного света с налётом ностальгической грусти. Похожие чувства шевелило в нём здание консерватории. Я их отчасти разделяла, но у меня они были подпорчены завистью, Грегору неведомой. Неведомой и в том отношении, что сам он сам её никогда не испытывал, и в том, что я её от него тщательно скрывала. Могло ли получиться, что мы и правда прошли и мимо шахматного клуба, и мимо консерватории в один и тот же день? Если да, то было это поздней весной. Когда оказались возле последней, послышались приглушённые музыкальные звуки. В правом крыле играли на скрипке, в левом на фортепиано. Я тогда считала себя композитором и втайне от всех писала симфонию. Было что-то неприличное в этом моём влечении к секретам. Как эксгибиционист в парке вдруг распахивает средь бела дня плащ и трясёт перед несчастными прохожими своими причиндалами, так и я, когда всё становилось готово, в самый неподходящий момент вываливала перед другими результаты своих трудов и наслаждалась произведённым эффектом: «А вот посмотрите-ка, что у меня тут есть!» Перед консерваторией в этот раз кроме меня никого не было. Музыки было не слышно.
Вернувшись с прогулки, я поставила на плиту чайник и присела рядом, на стул. Чайник у меня самый обыкновенный, эмалированный, без гудка, им еще Грегор пользовался. Луиза как-то попыталась его выбросить, у нас с ней чуть до драки не дошло тогда. Когда вода вскипела, у меня появилась идея. Немного покопавшись в шифоньере, я нашла, что искала. Отряхнула деревянную коробку от пыли, набросила на плечи терракотовую шаль, вышла в коридор и постучала в соседнюю квартиру. В дверном проеме показалась перекошенная от удивления Симона. Я никогда прежде не стучала к ней сама.
– Симочка!
Думаю, ей было так же неловко, как мне.
– Здравствуй, Симона. Не хочешь поиграть со мной в шахматы?