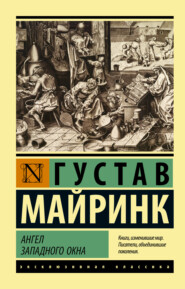По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Альбинос
Автор
Год написания книги
2007
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И братья надолго замолчали.
– Хорошо, что молодые ушли, – нарушил наконец молчание усталый голос Ариоста.
Мы, двенадцать старейшин, как осколки прошлого, и нам надо держаться вместе. Быть может, тогда наш орден еще даст свежий зеленый росток…
Да! Главная вина за упадок ордена лежит на моей совести. – Голос его дрогнул. – Мне необходимо рассказать вам одну длинную историю, снять бремя с моей души еще до того, как те – другие – вернутся и наступит новое столетие.
Лорд Кельвин в своем похожем на трон кресле поднял глаза и сделал движение рукой; остальные согласно кивнули.
Ариост начал:
– Я постараюсь быть кратким, с тем, чтобы моих сил хватило до конца. Итак, слушайте.
Тридцать лет назад великим магистром нашего ордена, как вам хорошо известно, был доктор Кассеканари, а я при нем – первым архицензором.
Орденом управляли лишь мы вдвоем. Доктор Кассеканари – физиолог, известный ученый; предки его были из Тринидада – думаю, негры, – им он обязан своим ужасным экзотическим уродством! Но все это вы и сами знаете.
Мы были друзьями; но горячая кровь сметает любые преграды… Короче, я обманывал Кассеканари с его женой Беатрис, прекрасной, как солнце, которую мы оба любили без памяти…
Нарушение орденского устава!!
…Беатрис родила двух мальчиков, один из них – Паскуаль – был моим сыном.
Обнаружив неверность жены, Кассеканари поспешно уладил свои дела и вместе с мальчиками покинул Прагу. Все произошло так стремительно, что я просто не успел вмешаться.
Мне он больше не сказал ни слова, ни разу не взглянул в мою сторону.
Но месть его была ужасной. До сих пор у меня в уме не укладывается, каким образом я все это пережил. – Ариост на секунду замолчал, уставившись отсутствующим взглядом в противоположную стену. Потом продолжал: – Лишь мозг, соединивший в себе сумрачные фантазии туземца с острым, как ланцет, интеллектом Ученого, глубочайшего знатока человеческой души, мог породить тот чудовищный план, в результате которого сердце Беатрис было испепелено, а я, коварно лишенный свободной воли, был незаметно вовлечен в преступление как соучастник, – ничего более кошмарного представить себе невозможно.
Безумие вскоре милосердно погасило разум моей несчастной Беатрис, и я благословил час ее избавления…
Руки говорящего дрожали, как в лихорадке, и вино когда он хотел поднести бокал к губам, расплескалось
– Дальше! Кассеканари вскоре дал о себе знать письмом с адресом, через который все «важные известия», как он выразился, будут незамедлительно передаваться ему – где бы он ни находился.
Далее он писал, что после долгих размышлений понял окончательно: мой сын – это старший, Мануэль а младший, Паскуаль – его, и никаких сомнений на этот счет быть не может.
В действительности же все обстояло наоборот.
В его словах звучала какая-то темная угроза, и я не мог заглушить в себе тихий вкрадчивый шепоток обывательского эгоизма, ведь мой маленький Паскуаль, которого я никак не мог защитить, в результате этой путаницы был избавлен от вспышек ненависти со стороны Кассеканари.
Итак, я промолчал и, сам того не сознавая, сделал первый шаг к той бездне, из которой уже нет выхода.
Много, много позже для меня открылась эта коварная хитрость: заставив меня поверить в то, что он перепутал мальчиков, Кассеканари обрекал мою душу на неслыханные муки.
Петлю чудовище затягивало медленно.
Со строго дозированными интервалами, с какой-то нечеловеческой точностью стали приходить его отчеты об экспериментах по физиологии и вивисекции, которые он, «во искупление чужой вины и на благо науки», осуществлял на маленьком Мануэле – ведь «с твоего молчаливого согласия он не является моим ребенком» – так, как их можно проводить лишь на существе, более далеком твоему сердцу, чем какая-нибудь подопытная крыса.
А фотографии, которые прилагались, подтверждали ужасную правоту его слов. Когда приходило очередное письмо и передо мной клали запечатанный конверт, я готов был сунуть свои руки в пылающий огонь, чтобы болью заглушить боль той изощренной пытки, которая раздирала меня при мысли – вновь, с самого начала, переживать этот невыносимый кошмар, через все стадии которого медленно, ступень за ступенью, смакуя каждую деталь, вел меня Кассеканари.
Лишь надежда наконец-то, наконец выяснить настоящее местопребывание Кассеканари и спасти несчастную жертву удерживала меня от самоубийства.
Часами лежал я перед Распятием, моля Бога ниспослать мне сил, чтобы смог я, оставив очередное письмо нераспечатанным, сжечь его.
Но сил на это у меня так и недостало.
Снова приходило письмо, и снова я вскрывал его и – падал без сознания. Но если я открою ему его ошибку, терзал я себя, его ненависть обратится на моего сына, а тот, другой, – невинный – будет спасен!
И хватался я за перо, чтобы обо всем написать, доказать.
Но мужество всякий раз покидало меня – я хотел, но не мог, я мог, но не хотел, – и молчание превращало меня в соучастника: я тоже истязал бедного маленького Мануэля – сына моей возлюбленной Беатрис.
И все же самым страшным был темный, неизвестной природы огонь, искра которого каким-то загадочным образом попала в мое сердце, незаметно и неотвратимо разгорелась в пламя, и теперь моя душа, уже невластная над ним, корчилась в адских муках, когда ядовитые языки дьявольского, исполненного ненависти удовлетворения – как же, ведь чудовище надругалось над собственной плотью и кровью – жалили ее…
Привстав со своих мест, старейшины не сводили с Ариоста глаз, внимая каждому его слову, которые он, судорожно вцепившись в подлокотники кресла, произносил почти шепотом.
– В течение года, пока смерть не вырвала скальпель из его рук, он истязал Мануэля, подвергая его таким садистским пыткам, описывать которые отказывается мой язык: переливал ему кровь каких-то белых выродившихся тварей, подверженных светобоязни; экстирпировал у него те участки головного мозга, в которых, согласно его теории, находились центры добра и милосердия, – и в конце концов превратил его своими экспериментами в «душевномертвого», как он определял это состояние в своих отчетах.
А с дегенерацией доброго начала, с умерщвлением всего человеческого: сочувствия, сострадания, любви – у бедной жертвы, как и предсказывал в одном из писем Кассеканари, проявились также признаки дегенерации телесной – жуткий феномен, который африканские колдуны традиционно называют «реальный белый негр»
После долгих, долгих лет отчаянных поисков дела ордена и мои собственные я оставил на произвол судьбы – мне наконец удалось найти сына – уже взрослого (Мануэль исчез бесследно).
И тут меня постиг последний удар: мой сын носил имя Эммануил Кассеканари…
Тот самый брат Корвинус, который состоит в рядах нашего ордена.
Эммануил Кассеканари.
И он непоколебимо стоит на том, что его никогда не называли Паскуалем.
С тех пор меня неотступно преследует мысль, что Кассеканари мне солгал, что он искалечил Паскуаля, а не Мануэля, что жертвой был, таким образом, мой сын. На фотографиях черты лица были размыты, а в детстве мальчики походили друг на друга как две капли воды…
Но ведь это же не может, не может, не может быть, иначе преступление, вечные муки совести – только слова! Разве не правда, – как безумный вскричал вдруг Ариост, – скажите, братья, разве не правда, что мой сын – Корвинус? Ведь он – вылитый я!
Братья печально опустили глаза, не желая ложью осквернять свои уста. Лишь молча кивнули.
Тихо закончил свой рассказ Ариост:
– Иногда, в ночных кошмарах, я вижу, как мое дитя преследует отвратительный беловолосый урод с красными воспаленными глазами; задыхаясь от ненависти, он, клейменный светобоязнью, поджидает его во мраке: Мануэль, пропавший Мануэль – ужасный – ужасный… белый негр.
Никто из братьев не мог издать ни звука. …Мертвая тишина…
Тут – как будто услыхав немой вопрос – Ариост вполголоса, словно объясняя самому себе, произнес:
– Душевномертвый! Белый негр… реальный альбинос.
– Альбинос? – Баал Шем, покачнувшись, прислонился к стене. – Боже милосердный, скульптор! Иранак-Кассак – альбинос!