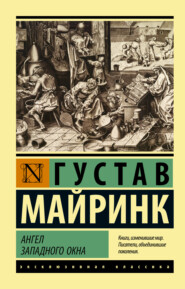По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Голем
Автор
Жанр
Год написания книги
1914
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В тот день, когда доктор Гульберт достиг цели, которая ему еще в студенческие годы казалась высочайшей, когда его величество император австрийский назначил его ректором нашего университета, – в тот самый день пронесся слух, что он обручился с одной молодой и необычайно красивой девушкой из бедной, правда, но аристократической семьи.
И действительно, казалось, что счастье свалилось на доктора Гульберта. Правда, брак его оказался бездетным, но он носил свою молодую жену на руках. Величайшей радостью его было исполнять малейшее желание, которое он прочитывал в ее взоре.
Но в своем счастье он ни в малейшей степени не забыл, как это обычно бывает с другими, о страждущих ближних. «Бог утешил мою тоску, – будто сказал он однажды. – Он обратил в действительность образ, который с раннего детства мне преподносился. Он дал мне прекраснейшее из земных существ. И я хочу, чтобы отблеск моего счастья, поскольку это в моих силах, падал и на других…»
Вот почему он принял такое горячее участие в судьбе одного бедного студента, как если бы тот был его сыном. Вероятно, ему приходила в голову мысль, как хорошо было бы, если бы кто-нибудь поступил так с ним во дни его тяжелой юности. Но на земле часто поступок хороший и честный ведет к таким же последствиям, как и самый дурной, потому что мы, люди, не умеем отличать ядовитого семени от здорового. Так случилось и на этот раз: вызванный состраданием поступок доктора Гульберта причинил ему самому горе.
Молодая жена очень быстро воспылала тайной любовью к студенту, и безжалостной судьбе было угодно, чтобы ректор, как раз в тот момент, когда он, неожиданно вернувшись домой, хотел порадовать жену букетом роз, подарком к именинам, застал ее в объятиях того, кого он столь щедро осыпал своими благодеяниями.
Говорят, что голубой василек может навсегда потерять свой цвет, если на него упадет тускло-желтый, серый отблеск молнии. Вот так навсегда ослепла душа старика в тот день, когда вдребезги разлетелось его счастье. Уже в тот вечер он, который никогда ни в чем не знал излишества, просидел здесь у Лойзичек, потеряв сознание от водки, до рассвета. И Лойзичек стал его пристанищем до конца его разбитой жизни. Летом он спал на щебне у какой-нибудь постройки, зимой же – на деревянной скамейке.
Звание профессора и доктора обоих прав за ним молчаливо сохранилось.
Ни у кого не хватало мужества бросить ему, еще недавно знаменитому ученому, упрек в его возбуждающем всеобщее огорчение образе жизни.
Мало-помалу вокруг него собрался весь темный люд еврейского квартала, и так возникло странное сообщество, которое еще до сих пор называется батальоном.
Всеобъемлющее знание законов, которым обладал доктор Гульберт, стало оградою для всех, на кого полиция слишком внимательно посматривала. Умирал ли с голода какой-нибудь выпущенный арестант, доктор Гульберт высылал его совершенно голым на Старогородской проспект, – и правление так называемого Фишбанка оказывалось вынужденным заказать ему костюм. Подлежала ли высылке из города бездомная проститутка, он немедленно венчал ее с босяком, приписанным к округу, и делал ее таким образом оседлой.
Сотни таких обходов знал доктор Гульберт, и с его заступничеством полиция бороться не могла. Все, что эти отбросы человеческого общества «зарабатывали», они честно, до последней полушки, сдавали в общую кассу, которая обслуживала все их жизненные потребности. Никто не попадался даже и в ничтожной нечестности. Может быть, именно из-за этой железной дисциплины и сложилось наименование батальон.
Каждое первое декабря ночью – годовщина несчастья, постигшего старика, – у Лойзичек происходило оригинальное празднество. Сюда набивалась толпа попрошаек, бродяг, сутенеров, уличных девок, пьяниц, проходимцев. Царствовала невозмутимая тишина, как при богослужении, – доктор Гульберт помещался в том углу, где сейчас сидят музыканты, как раз под портретом его величества императора, и рассказывал историю своей жизни: как он выдвинулся, как стал доктором, а потом ректором. Как только он подходил к тому моменту, когда он вошел в комнату молодой жены, с букетом роз в честь дня ее рождения и в память о том часе, в который он пришел к ней сделать предложение, и она стала его возлюбленной невестой, – голос его обрывался. В рыданиях склонялся он над столом. Часто случалось, что какая-нибудь распутная девка стыдливо и осторожно, чтобы никто не заметил, вкладывала ему в руку полуувядший цветок.
Слушатели долго не шевелились. Плакать этим людям непривычно. Они только опускают глаза и неуверенно перебирают пальцами.
Однажды утром нашли доктора Гульберта мертвым на скамейке внизу у Молдавы. По-видимому, он замерз.
Его похороны и сейчас стоят перед моим взором. Батальон из кожи лез, чтобы все было возможно торжественнее.
Впереди в парадной форме шел университетский педель; в руках у него была пурпурная подушечка с золотой цепью, а за катафалком необозримые ряды… батальон, босый, грязный, оборванный и ободранный. Многие продали последние свои тряпки и шли, покрыв тело, руки и ноги обрывками старых газет.
Так оказали они ему последнюю почесть.
На его могиле стоит белый камень с тремя высеченными фигурами: «Спаситель, распятый между двумя разбойниками». Памятник воздвигнут неизвестно кем. Говорят, его поставила жена доктора Гульберта.
В завещании покойного юриста был пункт, согласно которому все члены батальона получали у Лойзичек бесплатно тарелку супу. Для этого-то здесь приделаны на цепочках к столу ложки, а углубления в столе заменяют тарелки. В двенадцать часов является кельнерша с большим жестяным насосом, наливает туда суп, и если кто-нибудь оказывается не в состоянии доказать свою принадлежность к батальону, она тем же насосом выкачивает обратно жидкость.
Обычаи этого стола вошли в пословицу и распространились по всему миру.
Поднявшийся в зале шум вывел меня из летаргии. Последние фразы, произнесенные Цваком, еще заполняли мое сознание. Я еще видел, как он разводил руками, чтобы пояснить, как насос ходил взад и вперед. Затем возникавшие вокруг нас картины стали мелькать с такой быстротой и автоматичностью и при всем том с такой неестественной отчетливостью, что я мгновениями забывал самого себя и чувствовал себя каким-то колесиком в живом часовом механизме.
Комната превратилась в сплошное человеческое месиво. Наверху, на эстраде, обычные господа в черных фраках. Белые манжеты, сверкающие кольца. Драгунский мундир с аксельбантами ротмистра. В глубине дамская шляпа со страусовым пером цвета лососины.
Сквозь решетку барьера смотрело искаженное лицо Лойзы. Я видел: он едва держался на ногах. Был тут и Яромир, он неподвижно смотрел вверх, совсем тесно прижавшись к боковой стене, как бы притиснутый туда невидимой рукой.
Танец вдруг оборвался: очевидно, хозяин крикнул что-то такое, что испугало всех. Музыка продолжала играть, но тихо, как бы неуверенно. Она дрожала – это ясно чувствовалось. А на лице у хозяина все же было выражение коварной, дикой радости… У входной двери стоит полицейский комиссар в форме. Он загородил руками выход, чтобы никого не выпустить. За ним – агент уголовного розыска.
– Здесь все-таки танцуют! Несмотря на запрещение. Я закрываю этот притон. Ступайте за мной, хозяин. Все прочие, марш в участок.
Слова звучат командой.
Дюжий парень не отвечает, но коварная гримаса не сходит с его лица.
Она кажется застывшей.
Гармоника поперхнулась и едва посвистывает.
Арфа тоже поджала хвост.
Лица все вдруг видны в профиль: они с ожиданием всматриваются в эстраду.
Аристократическая черная фигура спокойно сходит с лесенки и медленно направляется к комиссару.
Взоры агента прикованы к блестящим лаковым ботинкам приближающегося.
Последний останавливается на расстоянии одного шага от полицейского и обводит его скучающим взором с головы до ног, потом с ног до головы.
Остальные господа на эстраде, перегнувшись через перила, стараются задушить свой смех серыми шелковыми носовыми платками.
Драгунский ротмистр вставляет золотую монету в глаз и выплевывает окурок в волосы девушки, стоящей внизу.
Полицейский комиссар изменился в лице и, не отводя глаз, смущенно смотрит на жемчужину на манишке аристократа.
Он не может вынести хладнокровного тусклого взгляда этого бритого неподвижного лица с крючковатым носом.
Оно выводит его из себя, подавляет его.
Мертвая тишина в зале становится все мучительнее.
– Так смотрят статуи рыцарей, что лежат со сложенными руками на каменных гробах в готических церквах, – шепчет художник Фрисландер, кивая в сторону кавалера.
Наконец, аристократ нарушает молчание:
– Э… Гм… – Он подделывается под голос хозяина: – Да, да, вот это гости, это видно. – По залу проносится оглушительный взрыв хохота, стаканы дребезжат, босяки хватаются за живот от смеха. Бутылка летит в стену и разбивается вдребезги. Толстый хозяин почтительно шепчет нам, поясняя: «Его светлость, князь Ферри Атенштедт».
Князь подал полицейскому визитную карточку. Несчастный берет ее, отдает честь и щелкает каблуками.
Снова становится тихо. Толпа ждет, затаив дыхание, что будет дальше.
Князь опять говорит:
– Дамы и господа, которых вы здесь видите… эээ… это мои милые гости. – Его светлость небрежным жестом указывает на весь сброд. – Не разрешите ли, господин комиссар… эээ… представить вас.
С вынужденной улыбкой комиссар отказывается, что-то бормочет… что, «к сожалению, обязанность службы», и наконец, оправившись, добавляет:
– Я вижу, здесь все в порядке.
Это вызывает к жизни драгунского ротмистра. Он бросается к дамской шляпе со страусовым пером и в ближайшее мгновение, при торжественном одобрении аристократической молодежи, выводит… Розину в зал.