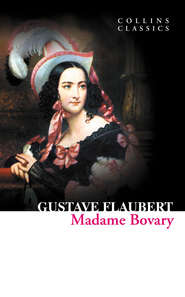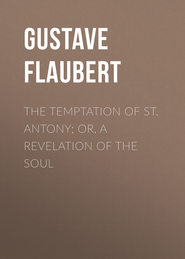По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Саламбо
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мато продолжал:
– Что делать? Как вернуться в Карфаген?
– Не знаю, – сказал Спендий.
Спокойствие Спендия раздражало Мато; он воскликнул:
– Это все твоя вина! Ты меня увлек за собой, а теперь, как трус, покидаешь! Зачем мне повиноваться тебе? Ты считаешь себя моим господином? Сводник, раб, сын раба!
Он скрежетал зубами и занес на Спендия свою огромную руку.
Грек ничего не ответил. Глиняный светильник освещал мягким светом шест палатки, где сиял среди висевшего оружия заимф.
Вдруг Мато надел котурны, застегнул куртку с бронзовыми пластинками, взял шлем.
– Ты куда? – спросил Спендий.
– Обратно, в Карфаген. Пусти меня! Я приведу ее сюда. Если они нападут на меня, я их раздавлю, как гадюк. Я убью ее, Спендий!
Он повторил:
– Да, убью! Вот увидишь, я ее убью!
Спендий, насторожившись, вдруг сорвал с шеста заимф и бросил его в угол, а на него набросал много шкур. Послышался людской говор, блеснули факелы, и вошел Нар Гавас в сопровождении человек двадцати.
На них были белые шерстяные плащи, длинные кинжалы, кожаные ожерелья, деревянные серьги, обувь из кожи гиен. Остановившись на пороге, они оперлись на копья в позе отдыхающих пастухов. Нар Гавас был самый красивый из всех. Ремни, обшитые жемчугом, обхватывали его тонкие руки; золотой обруч, прикреплявший к голове широкую одежду, украшен был страусовым пером, спускавшимся ему за плечо; глаза его казались острыми, как стрелы, и во всем его существе таилось нечто внимательное и легкое.
Он заявил, что хочет присоединиться к наемникам, ибо Республика уже давно угрожает его владениям. Ему поэтому выгодно стать на сторону варваров, он может быть им также полезен.
– Я вам доставлю слонов, их много в моих лесах, вино, древесное масло, ячмень, финики, смолу и серу для осад, двадцать тысяч пехоты и десять тысяч лошадей. Я обращаюсь к тебе, Мато, потому, что обладание заимфом сделало тебя первым в войске.
Он прибавил:
– К тому же мы старые друзья.
Мато смотрел на Спендия, который слушал, сидя на овечьих шкурах, и кивал головой в знак согласия. Нар Гавас продолжал говорить. Он призывал в свидетели богов и проклинал Карфаген. В порыве негодования он сломал дротик. Воины его испустили в один голос громкий протяжный крик. Мато, увлеченный его гневом, воскликнул, что принимает союз.
Привели белого быка и черную овцу – символ дня и символ ночи. Их зарезали на краю рва. Когда ров наполнился кровью, они погрузили в него руки. Потом Нар Гавас положил свою руку на грудь Мато, а Мато свою на грудь Нар Гаваса. После того они такой же знак наложили на холст своих палаток и провели ночь в пиршестве; остатки мяса сожгли вместе с кожей, костями, рогами и копытами.
Когда Мато вернулся с покрывалом богини, его встретили долгими приветственными криками; даже те, которые не исповедывали ханаанскую веру, почувствовали в неясном восторге, что появился гений-хранитель. Никто и не помышлял о том, чтобы завладеть заимфом. Таинственность, с какой Мато его добыл, была достаточной в глазах варваров, чтобы узаконить обладание им. Так думали солдаты африканской расы. Другие, менее закоренелые в своем гневе, не знали, на что решиться. Будь у них корабли, они тотчас бы покинули его.
Спендий, Нар Гавас и Мато послали гонцов ко всем племенам карфагенской земли.
Карфаген истощал все эти народы чрезмерными податями; железные цепи, топор и крест карали запаздывание, даже ропот. Приходилось возделывать то, в чем нуждалась Республика, доставлять то, что она требовала. Никто не имел права владеть оружием. Когда деревни поднимали бунт, жителей продавали в рабство. На управителей смотрели как на выжимальный пресс и ценили их по количеству доставляемой дани. Дальше, за непосредственно подвластными карфагенянам областями, жили союзники, платившие лишь небольшую дань, позади союзников бродили кочевники, которых можно было на них натравить. Благодаря такой системе, жатвы были всегда обильные, коневодство процветало, плантации великолепно возделывались. Катон Старший, знаток по части земледелия и рабовладельчества, девяносто два года спустя поражался этим успехам, и призывы к уничтожению Карфагена, столь часто повторяемые им в Риме, были скорее всего криком завистливой жадности.
В течение последней войны поборы удвоились, вследствие чего почти все города Ливии отдались Регулу[52 - Регул Марк Атилий – римский консул, командовавший римскими войсками, высадившимися в Африке во время 1-й Пунической войны. Потерпел поражение от Ксантиппа, был взят в плен и окончил свою жизнь в Карфагене. Предания о том, что он был отправлен в Рим в качестве посла, не соответствуют действительности.]. В наказание с них потребовали тысячу талантов, двадцать тысяч быков, триста мешков золотого песка, значительные запасы зерна, а предводители племен были распяты на кресте или брошены на растерзание львам.
Особенную ненависть к Карфагену питал Тунис. Он был древнее метрополии и не мог простить Карфагену его величия. Расположенный против стен Карфагена, но, увязая в грязи, у самой воды, он глядел на него, как ядовитое животное. Изгнания, избиения и эпидемии не ослабили Тунис. Он стал на сторону Архагата, сына Агафокла. Пожиратели нечистой пищи тотчас же нашли в Тунисе оружие.
Посланцы наемников не успели еще отбыть, как в провинциях поднялось ликование. Не дожидаясь дальнейшего, домовых управителей и должностных лиц Республики задушили в банях, достали из пещер спрятанное старое оружие, из железных плугов стали ковать мечи. Дети оттачивали дротики о косяки дверей, а женщины отдавали свои ожерелья, кольца и серьги – все, что могло послужить на гибель Карфагену. Каждый старался содействовать разрушению Республики. Связки копий лежали в городах горой, точно снопы пшеницы. В лагерь отправлены были скот и деньги. Мато поспешил, по совету Спендия, уплатить наемникам невыданное жалованье, и за это был провозглашен главным начальником, шалишимом варваров.
В то же время прибывали на помощь люди. Сначала явились местные жители, потом рабы из деревень. Захватили также караваны негров и вооружили их; направлявшиеся в Карфаген купцы, в надежде на более верную прибыль, тоже присоединились к варварам. Непрерывно приходили многочисленные отряды. С высот Акрополя видна была увеличивавшаяся армия.
На верху акведука стояли на страже легионеры. Около них расставлены были на небольшом расстоянии один от другого медные котлы, в которых кипел асфальт. Внизу, на равнине, волновалась густая толпа. Она была в нерешительности, чувствуя тревогу, которую всегда будит в варварах вид возвышающихся перед ними стен.
Утика и Гиппо-Зарит отказались вступить в союз. Это были такие же финикийские колонии, как Карфаген, они пользовались самоуправлением и заставляли Республику вводить во все договоры параграфы, подтверждающие их самостоятельность. Все же они относились с почтением к этой покровительствующей им старшей сестре и не верили, что скопище варваров способно победить Карфаген; напротив, они были убеждены в конечном поражении наемников. Они предпочитали поэтому сохранять нейтралитет и жить спокойно.
Но содействие обеих колоний, вследствие географического положения их, было необходимо варварам. Утика, лежащая в глубине залива, была очень удобна для подвоза подкреплений Карфагену. Если бы была взята только одна Утика, ее мог заменить Гиппо-Зарит, расположенный в шести часах пути дальше по берегу. Пользуясь их услугами, Карфаген был бы непобедим.
Спендий настаивал на том, чтобы тотчас же начали осаду Карфагена, но Нар Гавас воспротивился: следовало сначала двинуться на границы. Таково было мнение ветеранов, а также самого Мато, и поэтому решили, что Спендий отправится осаждать Утику, а Мато – Гиппо-Зарит; третий корпус армий, опираясь на Тунис, должен был занять карфагенскую долину; это взял на себя Автарит. Что же касается Нар Гаваса, то решено было, что он вернется в свое царство, приведет оттуда слонов и займет со своей конницей дороги.
Женщины очень возражали против этого решения: они зарились на драгоценности карфагенянок. Ливийцы тоже возмущались: их звали сражаться против Карфагена, а теперь складывают оружие. В поход выступили почти одни наемники. Мато начальствовал над своими сородичами, а также над иберийцами, лузитанцами, пришельцами с запада и с островов. Все те, которые говорили по-гречески, требовали в начальники Спендия, ценя его за ум.
В Карфагене были крайне изумлены, когда войско вдруг тронулось; оно выстроилось под горой Ариадны, вдоль дороги в Утику со стороны моря. Одна часть осталась перед Тунисом, остальные исчезли и вновь появились на другом берегу залива, на краю леса, в глубь которого они устремились.
Всех варваров было около восьмидесяти тысяч. Без сомнения, оба тирских города не устоят против них, и войско снова повернет на Карфаген. Уже один значительный отряд отрезал Карфаген от материка, заняв перешеек, и вскоре город должен был погибнуть от голода. Карфаген не мог обойтись без помощи провинций, ибо жители его не платили налогов, как в Риме. Карфагену недоставало политического гения. Вечная жажда наживы лишала его той осторожности, которую порождали более возвышенные стремления. Точно огромная галера, бросившая якорь в ливийских песках, Карфаген держался благодаря труду. Народы, как волны, бушевали вокруг него, и малейшая буря потрясала этот грозный организм.
Государственная касса была истощена римской войной и всем, что было растрачено и потеряно, пока торговались с варварами. Между тем нужны были солдаты, а ни одно правительство не доверяло Карфагенской республике! Птолемей недавно отказал ей в двух тысячах талантов. К тому же похищение покрывала очень угнетало карфагенян. Спендий верно это предвидел.
Но, чувствуя общую ненависть к себе, Карфаген уповал на свои деньги и своих богов; любовь народа к родине поддерживалась самим государственным строем.
Прежде всего власть зависела от всех, и никто в отдельности не был достаточно силен, чтобы завладеть ею. Частные долги рассматривались как долги общественные; монопольное право торговли принадлежало людям ханаанского племени. Умножая ростовщичеством доходы, получаемые путем пиратства, истощая землю, эксплуатируя рабов и бедняков, иногда добивались богатства, и только оно одно открывало путь ко всем должностям. И, хотя власть и деньги оставались постоянным достоянием одних и тех же семей, эту олигархию терпели, потому что всякий мог надеяться вступить в нее.
Торговые общества, где вырабатывались законы, избирали финансовых инспекторов, которые, заканчивая свою службу, назначали сто членов Совета старейшин, зависевших, в свою очередь, от Великого собрания, объединения всех богатых. Что же касается двух суффетов – этого пережитка царской власти, – занимавших положение ниже консульского, то их назначали в один и тот же день; избирая их из двух разных родов, их старались сделать врагами, чтобы они ослабляли друг друга. Они не имели права высказываться по вопросу о войне, а когда терпели поражения, Великий совет распинал их на кресте.
Сила Карфагена исходила, таким образом, от Сисситов, то есть из большого двора в центре Малки, того места, куда, по преданию, причалила первая лодка финикийских матросов – море с тех пор сильно отступило. Двор состоял из целого ряда маленьких комнат, построенных по архаическому способу из пальмовых стволов и обособленных одна от другой, чтобы в них могли собираться отдельно различные общества. Богатые толпились там целый день, обсуждая свои, а равно и государственные дела, начиная с добывания перца и кончая уничтожением Рима. Три раза в течение каждого лунного месяца их ложа выносились на верхнюю террасу, окружавшую стену двора; и снизу видно было, как они сидели на воздухе за столом, без котурнов и плащей, как их пальцы, унизанные драгоценными перстнями, брали еду, и большие серьги качались, когда они наклонялись к кувшинам. Сильные, тучные, полураздетые, они весело смеялись и ели под голубым небом, точно большие акулы, играющие в море.
Но теперь они не могли скрыть своей тревоги: ее выдавала необычайная бледность их лиц. Толпа, которая поджидала у дверей, провожала их до дворцов, стараясь что-нибудь выведать. Все дома были заперты, как во время чумы; улицы быстро наполнялись людьми, потом вдруг пустели; горожане поднимались на Акрополь, бегали к порту; каждую ночь Великий совет собирался для совещания. Наконец народ был созван на площадь Камона, и решено было обратиться к Ганнону, победителю при Гекатомпиле.
Он был человек хитрый, ханжа, беспощадный к африканцам, настоящий карфагенянин. Его богатство равнялось богатствам рода Барки. Он считался опытным администратором, не имевшим равных себе в вопросах управления.
Ганнон постановил призвать к оружию всех здоровых граждан, поставил катапульты на всех башнях, потребовал непомерного количества оружия, даже приказал выстроить четырнадцать галер, в сущности совершенно ненужных, и велел, чтобы все было подсчитано и тщательно записано. Его носили в арсенал, на маяк, в сокровищницы храмов; все время мелькали его большие носилки: покачиваясь со ступени на ступень, они поднимались по лестнице Акрополя. У себя во дворце, ночью, страдая от бессонницы, он готовился к битве, выкрикивая страшным голосом военные приказы.
Все под влиянием страха становились храбрыми. Богатые с самой зари выстраивались вдоль Малпал; подбирая одежду, они упражнялись в обращении с пиками. Не имея учителей, они вступали в споры друг с другом; задыхаясь от усталости, они садились отдыхать на могилы, а потом снова принимались за дело. Некоторые даже соблюдали диету. Одни воображали, что, для того чтобы прибавилось сил, нужно много есть, и потому объедались; другие, страдая от тучности, морили себя постом, чтобы похудеть.
Утика уже несколько раз обращалась к Карфагену за помощью, но Ганнон не хотел выступать, пока в военных орудиях не будет прилажено все, до последней гайки. Он потерял еще три месяца на снаряжение ста двенадцати слонов, которые помещались в городских стенах. Слоны эти победили Регула; народ их любил, и нужно было выказать как можно больше внимания к этим старым друзьям. Ганнон велел переплавить бронзовые дощечки, которые украшали их грудь, позолотить им клыки, расширить башни и выкроить из лучшей багряницы попоны, обшитые тяжелой бахромой. Затем, так как вожатых называли индусами (очевидно, потому, что первые из них были родом из Индии), он приказал одеть их всех на индусский образец, то есть в белые тюрбаны и короткие панталоны из виссона с поперечными складками, придававшими им вид двух половинок раковины, прикрепленных к бедрам.
Войско Автарита все еще стояло перед Тунисом. Оно пряталось за стеной, возведенной из ила, добытого в озере, и защищенной сверху колючим кустарником. Там и сям негры расставили на больших шестах пугала в виде человеческих масок, сделанных из птичьих перьев, из голов шакалов или змей; они раскрывали свои пасти навстречу врагу, чтобы привести его в ужас. Считая себя благодаря таким мерам совершенно непобедимыми, варвары плясали, боролись, жонглировали, в полной уверенности, что Карфаген должен неминуемо погибнуть. Всякий другой на месте Ганнона легко раздавил бы эту толпу, обремененную животными и женщинами. Кроме того, они не понимали военных приказов, и Автарит, упав духом, ничего от них не требовал.
Когда он проходил, они расступались, широко раскрыв свои большие синие глаза. Подойдя к берегу озера, он снимал куртку из тюленьей кожи, развязывал шнур, которым были стянуты его длинные рыжие волосы, и мочил их в воде. Он жалел, что не бежал из храма Эрикса со своими двумя тысячами галлов к римлянам.
Часто среди дня лучи солнца вдруг угасали. Тогда залив и море казались недвижимыми, точно расплавленный свинец. Облако темной пыли поднималось столбом и пробегало, крутясь вихрем; пальмы сгибались, небо исчезало, и слышно было, как отскакивали камни, падая на спины животных. Прижимаясь губами к отверстиям своей палатки, галл хрипел от изнеможения и печали. Он вспоминал запах пастбищ в осеннее утро, хлопья снега, мычание зубров, заблудившихся в тумане; закрыв глаза, он точно видел перед собою на трясинах, в глубине лесов, дрожащие огни хижин, крытых соломой.
Другие тоже тосковали по родине, хотя и не такой далекой. Пленные карфагеняне видели за заливом, на склонах Бирсы, полотняные навесы во дворах своих домов. Но вокруг пленных беспрерывно ходила стража. Их всех привязали к одной общей цепи. У каждого на шее был железный обруч, и толпа непрестанно собиралась глядеть на них. Женщины указывали маленьким детям на некогда богатую одежду пленных, висевшую лохмотьями на исхудавших телах.
Каждый раз при взгляде на Гискона Автарит приходил в бешенство, вспоминая нанесенное ему оскорбление. Он убил бы его, если бы не клятва, которую он дал Нар Гавасу. И вот он удалялся к себе в палатку, пил настойку из ячменя и тмина, пока не лишался чувств от хмеля. Он просыпался в палящий зной, терзаемый страшной жаждой.
Мато тем временем осаждал Гиппо-Зарит.