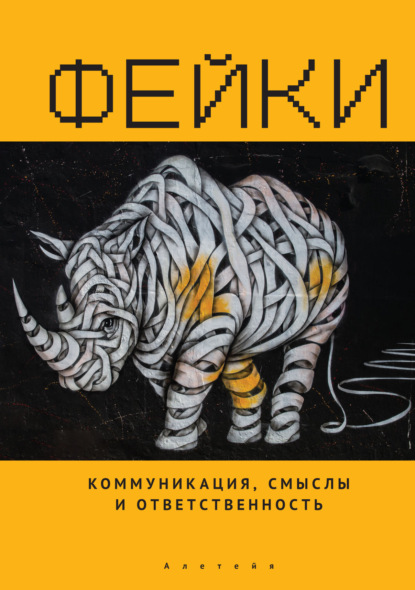По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Фейки: коммуникация, смыслы, ответственность
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
То есть, когда мы говорим о фейке, мне кажется очень важный момент – это не столько сам эффект ложности, неверности сообщения, специальной подмены, искажения информации и так далее, и так далее. Всё это мы найдём действительно универсальным. Мы найдём разные способы высказывания, разные способы работы с информацией и, если мы обратимся к тому же самому XIX веку, мы найдём и на русском материале, и, например, на французском, или на английском массу историй про журналистику, про работу журналиста и так далее. Но, при всём при том, там ведь ключевое на чём работает (мне кажется, что это очень верно), чем порождается эффект – это установка на объективность и достоверность. То есть другими словами там это работает не в смысле, что сам журналист соответствует этим критериям. Речь идёт о том, что само сообщение, сам текст функционирует, как долженствующий соответствовать этим представлениям, либо мы его не читаем, либо данное издание утрачивает репутацию.
И в свете этого мне представляется, очень важный феномен фейковости – это то, что для того, кто потребляет, для нас, как читателей, например, и, соответственно, то, что меняет радикально условия для производителя – это то, что мы читаем, одновременно не имея не просто уверенности в достоверности и объективности, но заранее воспринимая этот источник в том числе, как источник, например, fake news. Что не мешает нам по-прежнему обращаться к нему, не мешает нам одновременно, например, иметь к данному изданию и недоверие – и не просто недоверие, а представление о том, что оно не имеет вообще никакого отношения к реальности. Но при этом одновременно тут же работать с этим, как с некой информацией что-то сообщающей нам, и отсылать другому, и на этом строить некие свои нарративы уже, в том числе выстраивать сложные нарративные конструкции.
Мне кажется, что вот тут водораздел. Когда мы вообще говорим о феномене фейковости, то это не история про универсальные вещи: про манипуляцию, про искажения, про использования. Это гораздо больше не про того, кто создает сообщения, а про получателей и ситуацию. То есть, мне кажется, фейк – это история, которая возникает исключительно в коммуникации, взаимодействии. Это то, где важен и отправитель, и получатель, и, соответственно, реакция самого получателя в первую очередь, где он не исходит из того, что нечто заведомо не воспринимаемое им, как претендующее на достоверность и объективность, при этом отказывается… То есть, обратите внимание, оно не претендует точно на достоверность и объективность и, при всём при том, оно не перестаёт функционировать как новости. Оно не перестаёт функционировать как источник неких представлений о реальности, и вот тут, мне думается, очень важный другой выход, если мы говорим уже о совсем поздней модерности. Это то, что у нас происходит со статусом реальности. И здесь тот факт, что фейки работают – это не проблема получателя, а, наоборот, мне кажется, весьма трезвое обращение с информацией – поскольку это остается информацией, и поскольку у нас трансформируется само представление о реальности.
Если мы говорим о материалах XIX века, то там как раз реальность совпадает с объективностью и достоверностью. Здесь, если угодно, реальность многослойна. В реальность входит, в том числе, и представления, и слухи, и то, как другие желают нам показать, предположим, то или иное событие, и, соответственно, то, как мы реагируем на абсолютно вымышленную новость, или на абсолютно вымышленные события, или описание этого события. Это не обязательно история про то, что мы думаем, что это верно, что это истинная повествование. Мы исходим из того, что данное сообщение само по себе тоже является частью реальности. Вот этот способ, например, придумывать события, да, и то, что это событие оказывается здесь придуманным, оно тоже часть вот той коммуникативной реальности и той социальной реальности, в которой мы действуем.
Поэтому, мне кажется, это дает очень важный переход в рамках жёстких онтологий XIX века: если данное сообщение не соответствует реальности, то оно вообще не имеет статуса реальности – то есть мы вообще его вывели, вообще его не обсуждаем, потому что оно не имеет отношения к действительному ходу вещей. А здесь, в поздней модерности, оказывается, что оно не соответствует вроде бы объективной информации, но при этом оно тоже реальность. И работа наша с fake-news, и наша реакция не является сбоем, не является для нас ошибкой. Более того, нам во многом будет вполне резонно реагировать независимо от того, каково его отношение к объективности, независимо того, как мы понимаем объективность, потому что, как бы мы не понимали объективность, нам будет излишними трудозатратами в действительности разбираться, является ли это сообщение достоверным, потому что мы реагируем на него, как на событие в рамках коммуникации и, следовательно, если мы начнём откатывать его назад, искать первоисточник, собственно говоря… А зачем? Неважно объективно были ли дела так, как говорится, или нет, мы реагируем на новостное сообщение, а не на то, насколько это новостное сообщение достоверно.
Чернявская В.Е.: Но ключевой вопрос: откуда вы знаете и как мы все хотим и можем доказать, что мы реагируем так, а не по-другому?
Тесля А.А.: Естественно, мы можем доказать это. Понятно, что здесь у нас не количественная, а качественная социология. Мы можем доказать это по той же самой модели обращения с подобными сообщениями, например, на Facebook. Когда достаточно вроде бы уважаемые пользователи, для которых вроде бы важна репутация, тем не менее совершенно свободно апеллируют как реальными сообщениями, так фейками, не на уровне утверждения о том, что это действительно повествование о реальности. В данном случае, поскольку мы говорим о ЛОМах (то есть о лидерах общественного мнения), если они действуют подобным образом, и, если ситуация, когда указывается, что данное сообщение является, вообще-то говоря, не соответствующим объективности, то реакция соответствующего лидера общественного мнения, собственно говоря, окей, но это индикатор.
Ильин М.В.: На самом деле мне кажется, что понятие фейковости – это очень новая вещь, и она совершенно не применима к некоторым другим вещам. Еще до того, как мы начали, Сурен Тигранович задал вопрос о том, не было ли фейков в древнем Риме или ещё где-то и так далее. И вот я думаю, что не было. Тогда я затруднился сразу сказать, сейчас я не затрудняюсь, я хочу сказать, что фейки – это совершенно новая вещь, и она действительно новая, и мне сейчас стало казаться, что мне понятно, почему новая. С этой точки зрения, очень многие документы, которые, ну, просто фундаментальную роль сыграли и продолжают играть, между прочим, например, в политике, в искусстве, в истории и так далее, мы должны были бы назвать фейковым, а на самом деле они более чем достоверные и более чем фундаментальные. Например, Константинов дар. Вот у нас вся римская иерархия, папа с его Ватиканом и так далее, не могут существовать без Константинова дара, который должен был бы быть с точки зрения, так сказать, высшей логики христианства. Пришлось подделать.
Более того, если мы посмотрим с этой точки зрения, только на политику, то в истории возникновения новых европейских наций полно подделок! Там столько документов, там большая часть документов, якобы исторических – и многие поддельные. Это относится к западноевропейским странам XVII века, XVI века и так далее. Так же и с возникновением новых наций в восточной Европе. Документы подделывались вплоть до XIX века. На самом деле интересно, что если первый случай, то это какие-то сакральные авторитеты, а вот дальше начинаются не сакральный авторитеты. Дальше начинается очень простая вещь, начинается политическая традиция и, так сказать, обычное право, от которого ничего не осталось, но которое нужно подтвердить, например, зафиксировать, что существуют исконные права, определённые, для каких-то сословий или ещё кого-то. Ну, есть эти исконные права, это тоже факт, что они есть, это уже не отт уда идёт, это идёт от жизни. Они существуют. А как мы докажем, что они существуют? Приходится кому-то быстренько сляпать документ.
Мне очень понравилось то, с чего начал Григорий Львович, с истины. Но истина, если уж это не «естина», то, строго говоря, этимологически, это просто индекс. Тогда сейчас мы не будем про этимологию. Но истина это индексальная вещь и в этом смысле очень интересна социальная индексальность.
Если истина – это некое наличие в каком-то первичном смысле или уже после многих преобразований, это наличие уже высшим авторитетом демонстрируемое, то это уже неважно, это наличие. Как это наличие можно себе представить? Начинают добавляться разные модальности. Сначала добавляются простые модальности, вроде может ли не может быть наличным. Например, хочу я, чтобы это могло, или не хочу. И потом все больше и больше этих модальности получается, пока не начинается игра с модальностями.
И вот то, что сейчас, Сурен Тигранович сказал по поводу того, что он ничего этого не дает, потому что все это – то же самое, и показывает фейк. Это он совершенно точно сказал, потому что фейк – это действительно нечто наличное, но поданное через целую цепочку модальностей. Вот он фейк и появился, мы нарастили цепочк у мода льностей, и он оказа лся дискредитирован, поскольку он весь обусловлен тем, что все эти модальности сработают правильно, а они ещё не могут быть соединены противоречивым образом, модальности не могут исключать друг друга или находиться в каком-то конфликте, вот отсюда и возникает фейк. Вот мне кажется, что вот в этом вся штука.
Золян С.Т.: Такой вопрос: Псевдо-Дионисий – это фейк или не фейк? Если мы его так и пишем, что он «псевдо».
Тульчинский Г.Л.: Ну какой же он Дионисий, если он Псевдо-Дионисий.
Ильин М.В.: Нет, это уже потом отрегулировали так. Если бы директором был я, если бы я вот этим пользовался, то я оставил бы фейк только вот за этой постмодернистской игрой этих последних двух десятилетий.
Золян С.Т.: Я хочу привести современный пример фейка. Вот на митинге выступает дедушка погибшего солдата и к чему-то призывает, а на самом деле он никакой не дедушка солдата. Да, там стоит такой благообразной старик и от имени дедушки вещает, то есть он псевдо-дедушка.
Ильин М.В.: Но он мог бы быть дедушкой солдата. Мог бы. Вот на этом игра и строится.
Золян С.Т.: А почему тогда Псевдо-Дионисий – не фейк?
Ильин М.В.: Потому что Псевдо-Дионисия открыли классики филологии спустя десять веков.
Тульчинский Г.Л.: Вот ещё один пример. При жизни никакого Владимира Ильича Ленина не было, все тексты, опубликованные при жизни, были подписаны либо «Н. Ленин», либо «Владимир Ульянов» в скобках «Ленин». Владимир Ильич Ленин появился после смерти. До этого были публикации Владимира Ульянова, Н. Ленина, под другими псевдонимами. Его спросили незадолго до смерти: «Как Вас дальше называть? Ульянов или Ленин?» Он сказал: «Ленин». И искусственно появился Владимир Ильич Ленин, которого не было при жизни этого человека. Тогда «Материализм и эмпириокритицизм» – фейк или не-фейк?
Ильин М.В.: В моей логике это все же игра модальности. Есть спонтанная игра модальности, если столкнулись две или три модальности, в жизни так бывает, то ничего тут нету фейкового. А если мы специально выстраиваем цепочку модальности, чтобы получить эффект какой-то, я специально это сделал, интенция и у меня такая. Если у меня интенция выстроить вот это и показать, что из-за того, что я добавляю, я вольный и опытный человек, я могу себе позволить модальности выставить и так, и так, то у меня разные вещи получатся. Я ученик Фуко, он первый начал это, а я теперь вам покажу, что Фуко в сравнении со мной ерунда. Он выстроил одну цепочку в одну сторону, а её выстрою в четыре направления. Главное, что я могу, могу все вывернуть наизнанку.
Тульчинский Г.Л.: Если ты пишешь фикшн, то твори, ради Бога, что и делает Виктор Пелевин, который показывает, что никакого американского полёта на Луну не было. Но если ты претендуешь на статус учёного, то в этом случае ты подпадаешь под некоторые критерии сообщества.
Золян С.Т.: Перечисленные случаи они как раз не подпадают под фейк. Есть понятие интенции, злонамеренного обмана, а есть определённые модальности, который определены, которые в рамках определённого жанра являются полностью законными. Поэтому художественный вымысел не считается фэйком. Одно дело, когда мы в системе воображаемых миров, и там вполне возможно, не нарушая ни законов логики, ни уголовного или какого иного кодекса, переходить, из одного воображаемого мира в другой. Но другое дело, когда мы из системы возможных миров переходим в наш актуальный мир.
Чернявская В.Е.: Ведь всегда в основе всего, в лингвистике текста и текстуальности лежит интенция.
Тульчинский Г.Л.: Вот то, о чем говорил Андрей Александрович, что мы обсуждали… Фейк или не фейк – эта интенция исторична, сегодня это фейк, через десять лет это будет не фейк. Через десять лет, например, будут говорить, что Калининград назван в честь калины, и не просто калины, а жёлтой «Лады-Калины», на который Путин ездил. Сегодня фейк, а завтра не фейк. Сегодня не фейк, а завтра фейк. Кое-кого вынесут из мавзолея, или ещё что-нибудь сделают, и улицу переименуют. Интенция – это исторический момент, и она зависит от исторического контекста.
Золян С.Т.: Фактически, это сужение системы возможных миров. То, что сказал Григорий Львович, это подтверждает. Под возможными мирами я понимаю не потенциально бесконечное множество, как в классической модальной системе С. Крипке, а то, чем реально оперируют в процессе коммуникации – мир, принимаемый за актуальный, и его определенные деонтические (должное – недолжное) и темпоральные альтернативы (прошлое – настоящее).
Тесля А.А.: Мне как раз кажется очень полезным оттолкнуться от самой идеи «возможных миров» и от того, что мы имеем дело не только с Крипке – можно отослать сначала к К. Попперу с его тремя сферами. И, исходя из моей области компетенции, я присоединяюсь к тезису, согласно которому «фейк» – это всё-таки сугубо историческое понятие. Мне представляется, что для того, чтобы вообще возник «фейк» как феномен, с которым мы работаем, который мы осмысляем, нам необходимо движение на уровне онтологических представлений, движение истины.
Нам необходимо, чтобы сама прежняя онтологическая матрица расшаталась – соответственно, это все приходит в движение в XIX веке. Если мы говорим о возникновении фейков, то это может быть описано в свете того, что проблематические онтологии перестают быть достоянием интеллектуалов, и они становятся общим (достоянием), а это движение начинается только со второй половины XIX века.
В этом смысле, если мы посмотрим на то, как устроено общественное сознание в первой половине ещё XX века – то обнаружим достаточно наивную и беспроблемную онтологию. Если мы посмотрим на общественное сознание сейчас, то мы увидим, что там множественные онтологии не являются чем-то исключительным, они входят в стандартный интеллектуальный репертуар (не исключая, а сосуществуя с наивными онтологиями – в том числе в рамках сознания конкретного индивида). А там, где у нас возникает вот эта множественность онтологий, там, где у нас возникают вот эти все пересечения перспектив, тут у нас как раз и возникает фейк. Потому что до этого момента, когда мы имеем дело с прочными онтологиями, там имеем дело, в конце концов, со стремлением всё свести к бинарной схеме истина/ложь. А пространство неопределённости мыслится, именно на данный момент, как состояние непрояснённости. Это затруднение не онтологическое, это затруднение эпистемологическое, не более того.
Понятно, что оно может вообще быть практически не разрешено, но с онтологической точки зрения оно ни на что не влияет. Как только мы переходим к множественным онтологиям, у нас возникает попперовская третья сфера, третья зона, – и дальше уже разрастание в новых координатах, количественный рост. И в этой, новой онтологической рамке – возникает «фейк» в его отличии от «лжи», «обмана» и т. п. феноменов прежней онтологии. Поэтому я полагаю продуктивным рассматривать его сугубо исторически, не универсализировать – поскольку в противном случае онтологические основания оказываются отброшенными.
Чернявская В.Е.: В таком ключе, как обсуждается фейковость, уместно будет принять во внимание понятие медиального формата, который сегодня стал очень активно обсуждаться. Истинность – ложность, было – не было, фейк – не фейк – всё это получает определённость применительно к тому или иному коммуникативному формату, который получает привилегию выдвигать какие-то смыслы и задвигать другие. Неважно, кто спел песню лучше, а важно, кто спел её по телевизору. Если мы обсуждаем проблему, например, я этим тоже занимаюсь, несовершенно, конечно, но отчасти, лингвистического конструирования прошлого, лингвистические стратегии конструирования того, что было в прошлом, прошлое как настоящее. Скажем, что можно противопоставить высказыванию Барака Обамы: «Мой дедушка освобождал Освенцим»? Информацию, о том, что Освенцим освобождала советская армия, и, следовательно, дедушка Барака Обамы должен был бы быть в рядах советской армии. Он же очевидно имел в виду, что его дедушка освобождал Маутхаузен, потому что это единственный лагерь, который освободила только американская армия. Но здесь выходит, что приоритет права удостоверить истину получает именно медиальный формат, вот этот приоритетный канал сообщения.
Согомонян В.Э.: Я хотел бы сконцентрироваться на понятии события. Вне события ана лиз фейка может быть только субъективен. Как показывает опыт последних лет, современное общество, несмотря на появившуюся впервые в истории доступную возможность верификации, тем не менее продолжает быть институционально предрасположенным к потреблению информации об интересных и сенсационных не-событиях. Как к сплетням. Более того: общество имеет некую допустимость и исчислимую вариабельность разновидностей недействительных событий. По-видимому, есть некая область псевдо-потенциальных событий, которые то или иное общество условно считает возможными и готово «потреблять» информацию о них в качестве правдивой через публичный дискурс. В обществе существует интенция потребления интересной неправды, выданной за правду и участия в ленивой, не требующей быстрых результатов, но занимательной (как брейн-ринг) игре распознавания – правда эта новость или неправда? Таким образом, на мой взгляд, общество и его представители обладают определенной степенью фейковой интенции, стремления к потреблению событий-фейков (сродни эффекту Барнума – когда людям хочется верить в потенциальную ложь, которая тем не менее создает либо позитивный имидж, либо обрисовывает позитивную перспективу).
В этом контексте, как мне кажется, будет актуальным рассматривать фейк, прежде всего, как ложное событие. Событие, которое не произошло, однако было заявлено в публичном дискурсе неким автором или транслятором как произошедшее. Фейк в его расхожем понимании – есть любое событие публичного дискурса, которое в процессе семиозиса и верификации не обнаруживает референцию к реальности. Не вызывает доверия у адресанта в силу сомнительности определенных его атрибутов, однако, в то же время, не может быть сразу опровергнуто из-за неочевидной ложности.
Ложное событие в силу своего существования задает параметры истинного, так как, бытуя в качестве постоянной естественной оппозиции к истинному, определяет его атрибутику, стиль и др. То есть адресанту, транслятору надо сообщать об истинном событии таким образом, чтобы оно вдруг не сошло бы за ложное (чтобы модальности сработали бы правильно). И, соответственно, наоборот – автору ложного события надо наделить фейк атрибутами истинности. Фейк – это прежде всего подражание правде, причем подражание, скажем так, талантливое, умелое, мастерское, в обратном случае никакой это не фейк, а обычная ложь (как в известном анекдоте про гомосексуалиста).
Аудитория сообщений (сообщество адресатов в современном обществе) фрагментирована (эксперты-ЛОМы и их умная аудитория, обыватели, молодежь и др.), и каждый из фрагментов идентифицирует правдивость vs ложность сообщений о событиях исходя из разных критериев и атрибутов. Из последних выделю, например, форму (пост в ФБ, передовица газеты, тв-репортаж), авторитетность автора, надежность источника, эпичная парадоксальность автора (примитивный сюжетный паттерн – шут-Джокер говорит только правду), критерий общедоступности и значимости (если я не общедоступен и не значим, транслируемая мною информация, равно как и созданный мною фейк остается незначимым, недостойным ни внимания, ни верификации).
Рассмотрю уже использованный пример. Дед Обамы освобождал Освенцим – это неправда для эксперта и его умной аудитории. Для них он в лучшем случае мог участвовать в освобождении Маутхаузена. Пропозиция этого сообщения – дед президента США освобождал узников фашистского концлагеря – есть правда для остального подавляющего большинства, и это действительно есть правда, а не фейк для них еще и потому, что президент США не стал бы говорить неправду на столь трогательные темы. Здесь можно было бы сказать, что политикам свойственно лгать и что президент Никсон один из самых известных лжецов в истории, но об этом вновь знают эксперты и их умная аудитория.
В итоге, фейк регистрируют эксперты и верификаторы, а подавляющее большинство адресатов ставят знак равенства между фейком и не-фейком. Обратный пример: для верящего в освобождение дедом Обамы Освенцима усредненного обывателя какое-нибудь заурядное заявление того же президента Обамы о том, что он надеется на то, что на заседании ФРС США не будет поднята ставка рефинансирования – чистой воды фейк, ложное событие, потому что «все они одна контора и все это надувательство».
Самый главный вывод из рассмотренного: фейк без возможности верификации и не «обысканный» экспертными системами – это правда (цинично назовем его «дееспособным фейком»), а правда без верификации и анализа эксперта – потенциальный фейк («недееспособная правда»). В сегодняшнем обществе событие как (не-)правду часто конструирует авторитет (автора, транслятора, формы, критика, замалчивающего и т. д.) и (без-)участие эксперта, а не истина.
В этом контексте хотел бы обратиться к феноменам базовой действительности и действительного смысла – существуют ли они в публичном дискурсе объективно? Не являются ли они базовыми и действительными лишь с позиции знающего в самом широком смысле этого слова наблюдателя, при этом находящегося лишь в некоей определенной позиции? Сущностных истин значительно меньше, чем истин существования. Борис Ельцин несколько лет был Президентом России, это сущностна я истина, и дееспособный фейк здесь невозможен. Все остальное – истины существования, из которых могут получиться отменные фейки: пользовался двойником, вел тайные переговоры с Саддамом, хотел сбросить атомную бомбу на Вашингтон – невероятное раздолье для искажения базовой действительности и действительного смысла!
В современном обществе у любого события несколько жизней, и одна из них – обязательно фейк. Очередной парадокс сегодняшнего мира.
Тульчинский Г.Л.: Более того, каждое конечное существо, может в Инстаграм, ВКонтакте, где угодно, представить свою онтологию и что-то утверждать. И потом ещё возникает сообщество. В связи с развитием цифровых технологий коммуникации между правом личности на свободу слова (чреватым разрастанием фейковых новостей, постправды, практиками травли и буллинга) и правом личности на тайну личной жизни, защиту репутации. Впору вспоминать об античной паррессии, которую похоронил М. Фуко. В этом случае акцент переносится с оценки истинности на отношение к истине, на феномен «взятия слова» и ответственности за высказанное, способное вызывать негативную реакцию аудитории – как отдельных адресатов, так и целых сообществ. Таргетирование канала фейка очень важно. В искусстве можно почти все как свободная и провокативная игра смыслов. В науке, в политике – нет. То же происходит, когда информацию, допустимую в ВКонтакте, Твиттере или Спид-инфо публикует ИТАР-ТАСС, а то и МИД.
Чернявская В.Е.: Форма становится фактором выдвижения содержания. Форма в смысле коммуникативного формата. Если раньше, скажем, в XV веке это была книга, то сегодня мы говорим, что это уже связано с другим. Здесь опровержение или продвижения своего контента и своего дискурса уже связано не с доказательностью истины, но с теми медиальными ресурсами, которые позволяют овладеть форматом.
Золян С.Т.: Что вы сказали о привилегии продвигать, то это чуть ли не с первобытнообщинного строя у кого-то была привилегия продвижения информации.
Чернявская В.Е.: Но сегодня эта привилегия у коммуникативного канала. И авторитет конструируется, опять же, социальной практикой.
Золян С.Т.: Здесь у нас будет понятие ложного авторитета. Для меня информация в Фейсбуке недостоверна, а для кого-то может быть достоверна.
Чернявская В.Е.: Псевдо-, квази-, да, авторитета. В этом случае получается, что ваше слово против моего, и, следовательно, важным будет то, какие ресурсы бросаются на выдвижение позиции. И к тому, что вы говорили: ты профессор – и я профессор, у тебя журнал – и у меня журнал…
Золян С.Т.: А как Вы свяжете уже с ориентацией Бахтина на карнавальность? «Фейковые» короли – шуты (троли) – но все это ради утверждения «не-фейкового» порядка.
Тульчинский Г.Л.: Вот именно – порядка… Шуты, карнавал – это встроенный в культуру взгляд на нее извне, из аута позиции вненаходимости. Всякое осмеяние – контекстуально, выход за рамки системы, взгляд извне. В этом и заключается важность смеховой культуры, позволяющей остранять профанное. Карнавалы – институционализированные прорывы, окна из профанного в сакральное. Не менее важны были юродивые. Они могли осмеивать традиционно важное, делать то, за что другим рубили головы. Потому что им была доступна эта позиция вненаходимости. А поскольку absolute Out is God, их и воспринимали как «божьих людей» (сумасшедшие=божедомцы).
Так что это не фейки, а институционализированные традиционными культурами, регламентированные (время, место, персоны) остранения, освежения смысловых образований. Нынешние же тролли, фейки – не институционализированы (даже в СССР были специальные жанры эстрады, сатирические журналы – все знали, что это специальные место и время для практики осмеяния, не имеющей отношения к новостям).
А теперь резьбу сорвало. Каждый сам себе шут и юродивый. От пранкера до пресс-секретаря МИД, а то и президента (конечно же – США).