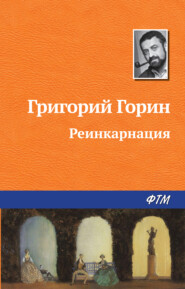По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Избранные страницы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
После этого он в течение нескольких дней звонил мне по телефону и даже приходил домой.
Я ругался, возмущался, гнал его – все безуспешно. Он даже не обижался.
Он смотрел на меня своими светлыми чистыми глазами и бубнил:
– Поймите, для меня это необходимо… Я же за границу часто выезжаю… У меня должно быть чувство юмора…
Тогда я решил написать о нем рассказ. О человеке, который таинственные законы смеха хочет разложить с помощью сухой таблицы умножения.
Свой рассказ я отнес в сатирический отдел одного журнала. Редактор долго смеялся.
– Ну и дуб! – говорил редактор. – Неужели такие бывают?
– Бывают, – сказал я. – Сам видел.
– Что ж, будем печатать, – сказал редактор.
Потом он обнял меня и, наклонившись к самому уху, тихо спросил:
– Ну а мне-то вы по секрету скажете: что же у больного на самом деле болело?!
– Голова, – еле слышно произнес я.
– А почему же повязка на ноге?..
Я понял, что этот рассказ вряд ли будет напечатан.
Случай на фабрике № 6
Все неприятности младшего технолога Ларичева происходили оттого, что он не умел ругаться. Спорить еще кое-как мог, хотя тоже неважно, очень редко повышал голос, но употребить при случае крепкое словцо или, не дай бог, выражение был просто не в силах. От этого страдал он сам, а главное – работа.
Работал Ларичев на обувной фабрике № 6, на которой, в силу вековых традиций (все-таки обувщики – потомки языкастых сапожников), ругаться умели все: от директора до вахтера. Ругались не зло, но как-то смачно и вовремя, отчего наступало всеобщее взаимопонимание, недоступное лишь младшему технологу Ларичеву. Он, со своей путаной, слегка шепелявой речью, выпадал из общего круга и вносил бестолковщину. Мог, например, часами просить кладовщика выдать в цех «те» заготовки, а не «эти», а кладовщик вяло говорил, что «тех» нет, и диалог был скучным и бессмысленным, пока, наконец, не приходил разгневанный мастер и не начинал орать на кладовщика, тот орал в ответ, мастер посылал кладовщика «куда подальше», тот шел и приносил именно те заготовки, которые и требовались.
Ларичев знал, что за глаза его все прозвали «диетическим мужиком», что над ним посмеиваются, что его авторитет равен нулю, но не мог придумать, как это все изменить. И каждый раз, когда в конце месяца на фабрике наступал аврал и надо было ускорить темп работы, директор начинал кричать на своих заместителей, те – на старшего технолога, старший – на младшего, а тот, в свою очередь, должен был орать на мастеров, но не мог. И поскольку эта налаженная цепочка разрывалась именно на нем, то получалось, что в срыве плана виноват именно он, Ларичев, и тогда на него орали все. От этого у Ларичева начинало болеть сердце, он приходил домой бледный, сосал валидол и жаловался жене.
– Женечка, – ласково говорила ему жена, – так нельзя, милый… Ты тоже спуску не давай. Ты ругайся!
– Я не умею, – вздыхал Ларичев.
– Научись!
– Не получается.
– Не может быть, – говорила жена, – ты способный! Ты – интеллигентный человек, с высшим образованием… Ты обязан это освоить! Занимайся вечерами.
– Пробовал, – грустно отвечал Ларичев.
Он, действительно, несколько раз пробовал. Наедине, перед зеркалом. Подбегал к зеркалу с решительным намерением выпалить все, что о себе думает, но каждый раз, видя свое хилое отражение, ему хотелось плакать, а не материться.
– Но это все вредно для здоровья, – говорила жена. – Мне один доктор объяснял, что брань – это выплескивание отрицательных эмоций. Все выплескивают, а ты не выплескиваешь! Если не можешь сам этому научиться, возьми репетитора.
– Ладно, – согласился однажды Ларичев, когда у него особенно сильно разболелось сердце. – Попробую учиться…
Шофер фабричной автобазы Егор Клягин долго не мог понять, чего от него хочет этот очкастый инженер в кожаной шляпке.
– Понимаете, Егор Степанович, – стыдливо опустив глаза, бормотал Ларичев, – я советовался со сведущими людьми, и все единодушно утверждают, что лучше вас этому меня никто не научит…
– Чему «этому»?
– Ну, вот этому… В смысле выражений… Все говорят, что вы их знаете бесчисленное множество…
– Кто говорит-то? – возмутился Клягин. – Дать бы тому по сусалам, кто говорит!
– Нет-нет, они в хорошем смысле говорили! В смысле, так сказать, восхищения вашим словарным запасом…
– Слушайте! – сердито сказал Клягин. – Некогда мне с вами шутки шутить, Евгений Петрович! У меня здесь и так… – тут Клягин употребил несколько тех выражений, которые были так недоступны Ларичеву.
– Вот-вот, – обрадовался Ларичев. – Именно так! Ах, как вы это лихо! Ну, прошу вас… Всего несколько занятий. А я вам буду платить.
– Чего? – изумился Клягин. Он решил, что Ларичев просто издевается над ним, но тот смотрел серьезно и несколько печально. – Это как же платить?
– Почасово, – сказал Ларичев. – У меня есть товарищ, преподаватель английского языка… Он берет за час занятий пять рублей.
– Ну, он английскому учит, – усмехнулся Клягин, – а тут – родному… Хватит и трешника.
– Спасибо, – сказал Ларичев. – Вы очень любезны.
В субботу днем Ларичев отправил жену в кино, достал магнитофон, тетрадь, ручки. Задернул шторы.
Клягин пришел в назначенный час. Он был при костюме и галстуке, выглядел торжественно и чуть неуверенно. Оглядел квартиру, попросил запереть дверь, поинтересовался слышимостью через стены.
– А то, знаете, соседи услышат – еще пятнадцать суток схлопочем.
Увидев магнитофон, Клягин заволновался:
– Это зачем? Уберите!
– Это для записей, – пояснил Ларичев. – Мне так запомнить будет проще и легче отрабатывать произношение…
– Уберите! – настаивал Клягин. – Это ж документ. И потом, на кой на эту гадость пленку переводить?
– Нет-нет, прошу вас, – взмолился Ларичев. – Без магнитофона мне поначалу будет трудно…
– Зря я в это дело ввязался, – вздохнул Клягин, однако, уступив просьбам Ларичева, сел за стол. Нервно закурил.
– Начнем, Егор Степанович! – Ларичев сел напротив, открыл тетрадку. – Прошу вас!
– Чего?