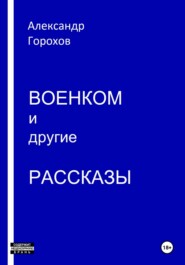По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
21 км от…
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Зрелище было мерзопакостнейшим. Это понял даже рыдающий и замолк, сказав напоследок «пардон».
– Звенеть вам, представители пьющего пола, как гранёным стаканам и бутылкам, пока не станет невыносимым этот звук. Пока, увидев бутылку или унюхав запах, милейший вам ныне, не станете в страхе затыкать уши и убегать от спиртного. – Дама произносила медленно и четко, голос ее должен был пугать мужиков, наводить на них ужас. Однако видимого эффекта в операционной не наблюдалось.
Понятые посмотрели на нее, как на дурочку из психиатрического отделения, потом глянули в полупустые стаканы и, чокнувшись, допили остатки.
Милиционер обвел примолкших граждан взглядом и привычно произнес:
– Ваши документы. – И без паузы добавил: – Пройдемте.
После сказанного он левой рукой снял фуражку, а правой постучал по своей голове. Звона не последовало.
– Пройдемте, мадам. Мошенничество в особо мелких размерах. И плаксуна своего не забудьте. Он пойдет за попытку кражи операционного инвентаря. Свидетелей попрошу также пройти. – Николай Павлович действовал как четко отлаженная машина.
Понятые, превратившиеся в свидетелей, вздохнули и, не выпуская стаканов, направились к выходу.
Черный плащ на потусторонней мадам поблек и опять стал непонятного темного цвета «верхней одеждой». Оба они стали прежними бессловесными родственниками только что прооперированного больного.
– Спасибо, доктор, – произнесла мадам просительным тоном, делая вид, что ничего эдакого не было, ? сколько мы вам должны?
– Операции в нашей стране бесплатны! – гордо ответил умный хирург и добавил строчку из прошлогодней стенгазеты: – «Спасать людей – это наша повседневная работа».
Мадам ехидно улыбнулась, но промолчала. Лыкин после этих слов проверил свою голову – не звенело. Он счастливо улыбнулся и снова заснул.
Истерические трели дверного звонка и вопли жены с требованием открыть дверь, чередующиеся с грохотом железной входной двери, видимо избиваемой крепкими сапогами лучшей половины лыкинской семьи, разбудили его.
– Лыкин, – истошно кричала жена, – проснись! Открывай дверь!
Лыкин открыл глаза. В голове звенело, гудело, болело, и все это многократно усиливалось при каждом моргании.
– Никогда не думал, что моргать так… – Лыкин пытался подобрать подходящее слово, но очередной грохот и угрозы погнали его к двери.
Однако никакой выходной двери не было. На месте выхода из квартиры оказался 6 «б» класс, а на пороге стоял опоздавший Лыкин с портфелем. Возле никелированной скобки, укреплявшей угол портфеля, была маленькая дырка, из которой капали на пол чернила из разбившейся стеклянной чернильницы.
Ласковая учительница, от которой месяц назад сбежал муж, улыбнулась и спросила:
– Лыкин, а где твои родители?
На самом деле родители ей были не нужны, ей надо было поиздеваться над Лыкиным. Это знал весь класс. Не знал только Лыкин.
Чернила капали на покрашенный рыжей краской пол и, повинуясь законам притяжения, образовывали маленькую лужицу.
– Лыкин, я тебя второй раз спрашиваю, где твои родители?
– На работе, – выдавил правдивый Лыкин.
– Да, а я думала, что они уехали на гастроли с Большим театром, – пошутила остроумная учительница.
Класс радостно понял юмор и засмеялся.
– Нет, они на работе, – честно признался Лыкин.
– Вон из класса! – заорала последовательница Макаренко. – Без родителей не смей появляться!
Лыкин повернулся спиной к притихшему классу и увидел запертую железную входную дверь своей квартиры и самого себя в старых трико, майке и тапочках.
– Господи, как же это так? – спросил себя Лыкин, понимая, что он, во-первых, не Бог, что, во-вторых, жена уехала на неделю в деревню к матери, в-третьих, что ключей у него нет. Они остались там, за дверью, и в-четвертых, что сейчас четыре часа ночи.
Через минуту, осознав все это, он вторично за повествование произнес:
– Ё-ё-ё-ё…
Бежавший от него к соседям таракан оглянулся, поглядел сочувственно на Лыкина, покачал головой, мол, пить надо меньше, вздохнул о тяжелой судьбе мужиков вообще, своей в частности и продолжил путь.
Лыкин остался один. В коридорной тусклой лампочке звенел от натуги желтый вольфрамовый волосок.
– «Гореть всегда, гореть везде, до дней последних донца». «Не такой уж горький я пропойца», чтоб, тебя не навестив, умереть, – вспомнил с ошибками снова про 6-й, а может, про 10 «б» Лыкин.
– Конечно, надо сходить к родителям, помочь, просто поговорить. – Лыкин наконец сообразил, о чем ему тогда твердила учительница.
Повинуясь библейскому инстинкту блудного сына, он засунул концы майки поглубже в трико, само трико расправил, насколько это было возможно, и, шаркая тапочками, начал спускаться по заплеванной шелухой и окурками лестнице. Чтобы не разбудить оставшихся жильцов, ему приходилось, как слаломисту, обходить пустые бутылки, банки и коробки.
После второй плоской площадки Лыкин начал прислушиваться к голосу экскурсовода, звучавшему до этого невнятно. И тот, обрадованный вниманием, окреп и усилился:
– Фресковая живопись со времен до монгольского нашествия занимала видное место в русском изобразительном искусстве. Но со времен Феофана Грека, Даниила Черного и особенно Андрея Рублева она приобрела тот размах и глубокую изобразительную силу, которая так поражает и нас, живущих на сотни лет позже.
Если Феофан Грек еще не отступает от византийских канонов, то его ученики и последователи Даниил Черный и Андрей Рублев вносят в свои творения русскую душу. Вносят суть нашей народной философии, ее противоречивость и неоднозначность.
Даниил Черный изображает суровых, не прощающих любые прегрешения святых, строго следящих за соблюдением основ бытия и веры.
Андрей Рублев – это человек уже другого мировоззрения, другой эпохи. Его творчество – это творчество прославления доброты. Это проповедование любви к людям, их малым слабостям, это призыв к объединению в доброте. В ней Рублев ищет смысл Руси и в ней его находит. Эта, именно эта национальная идея и есть то, что тщетно пытаются узреть нынешние философы, ищущие, как говорится, днем с огнем, но не понимающие простых и в то же время, наверное, самых сложных вещей.
В наши дни фрески вышли из стен соборов и монастырей, новые мастера этой древнейшей формы изобразительного искусства принесли их в наши дома, в наши подъезды. Донесли до каждого жителя города. И пусть их сюжеты еще не всегда сравнимы с сюжетами великих мастеров, но, я верю, все это еще впереди, – захлебываясь от восторга, закончил экскурсовод.
Лыкин продолжал спускаться по загаженной тинэйджерами лестнице мимо изображений и надписей, объясняющих гражданам детсадовского возраста особенности интимных взаимоотношений мужчин и женщин, а также названия отдельных частей тела. Здесь же указывалось, что необходимо сделать с некоторыми национальными меньшинствами и каким из видов секса предпочитают заниматься отдельные жители.
– А я действительно верю в познавательную силу искусства, – неуверенно оправдывался экскурсовод.
Лыкин не отвечал, но изредка печально ухмылялся. Он окончательно протрезвел, проснулся и шел в родительский дом, повинуясь не инстинкту и необходимости, а любви.
Лыкин ругал себя за то, что бывает у матери два раза в год, на ее день рождения и на поминки отца. За то, что на могиле отца не был уже года три. За то, что вечное безденежье, а работу путную не найти. За то, что жена ездит в деревню к своим родителям, помогает выкапывать картошку, а потом, загибаясь от радикулита, надрываясь, тащит мешки с этой картошкой, чтобы семья не сдохла с голоду зимой. За то, что надо детям помогать, а нечем.
– А про единство в доброте ты правильно сказал, – ответил Лыкин экскурсоводу. – Только это нас всех спасет и вытащит из дерьма, в которое мы сами себя посадили. Только это. По улицам, в транспорте столько злых молодых, а еще больше стариков и старух. Все ругаются, орут друг на друга. Один другого не слушает и не хочет слышать никого, кроме себя. Жизнь прожили, а доброте не научились, – витийствовал Лыкин, вообразив себя на трибуне в Кремле или в программе «Как нам жить дальше» главного телеканала.
– Злость и нищета – это страх и слабость. Только когда мы все вместе это поймем, что-то станет меняться в жизни. Но поймем ли? – продолжал народный трибун уже из зала, где шведский король выдает Нобелевские премии мира.
– Гражданин, ваши документы, – прервал рассуждения Лыкина о будущем России милиционер.
– Друг, – тихо ответил ему Лыкин, глядя прямо в глаза, – мне хреново. Я иду к маме. Не приставай, пожалуйста.