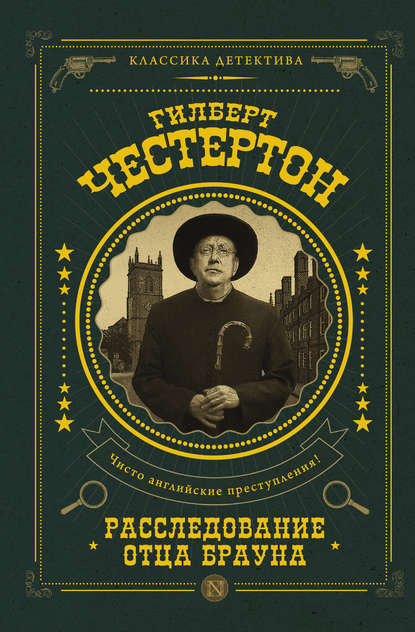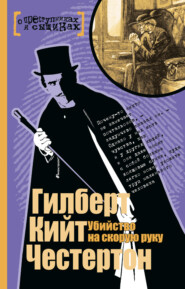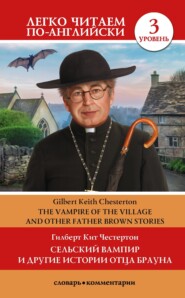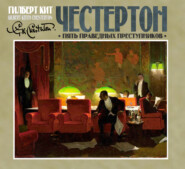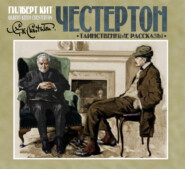По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Расследование отца Брауна (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Послушайте, – сказал он добродушно, – право же, это ни в какие ворота не лезет, согласитесь сами. Сначала вы заявили, что не нашли оружия. Теперь же мы находим его в избытке: вот нож, которым можно зарезать, вот веревка, которой можно удавить, и вот револьвер, а в конечном счете старик разбился, выпав из окна. Нет, я вам говорю, это ни в какие ворота не лезет. Это уж слишком.
И он тряхнул опущенной головой, словно конь на пастбище.
Инспектор Гилдер, преисполненный решимости, открыл рот, но не успел слова вымолвить, потому что забавный человек, стоявший на четвереньках, продолжал свои пространные рассуждения:
– И вот перед нами три немыслимых обстоятельства. Первое – это дыры в ковре, куда угодили шесть пуль. С какой стати кому-то понадобилось стрелять в ковер? Пьяный дырявит голову врагу, который скалит над ним зубы. Он не ищет повода ухватить его за ноги или взять приступом его домашние туфли. А тут еще эта веревка…
Оторвавшись от ковра, отец Браун поднял руки, сунул их в карманы, но продолжал стоять на коленях.
– В каком умопостижимом опьянении может человек захлестывать петлю на чьей-то шее, а в результате захлестнуть ее на ноге? И в любом случае Ройс не был так уж сильно пьян, иначе он сейчас спал бы беспробудным сном. Но самое явное свидетельство – это бутылка с виски. По-вашему выходит, что алкоголик дрался за бутылку, одержал верх, потом швырнул ее в угол, причем половину пролил, а ко второй половине даже не притронулся. Смею заверить, никакой алкоголик так не поступит.
Он неуклюже встал на ноги и с явным сожалением сказал мнимому убийце, который оговорил сам себя:
– Мне очень жаль, любезнейший, но ваша версия, право же, неудачна.
– Сэр, – тихонько сказала Элис Армстронг священнику, – вы позволите поговорить с вами наедине?
Услышав эту просьбу, словоохотливый пастырь прошел через лестничную площадку в другую комнату, но прежде, чем он успел открыть рот, девушка заговорила сама, и в голосе ее звучала неожиданная горечь.
– Вы умный человек, – сказала она, – и вы хотите выручить Патрика, я знаю. Но это бесполезно. Подоплека у этого дела прескверная, и чем больше вам удастся выяснить, тем больше будет улик против несчастного человека, которого я люблю.
– Почему же? – спросил Браун, твердо глядя ей в лицо.
– Да потому, – ответила она с такой же твердостью, – что я своими глазами видела, как он совершил преступление.
– Так! – невозмутимо сказал Браун. – И что же именно он сделал?
– Я была здесь, в этой самой комнате, – объяснила она. – Обе двери были закрыты, но вдруг раздался голос, какого я не слыхала в жизни, голос, похожий на рев. «Ад! Ад! Ад!» – выкрикнул он несколько раз кряду, а потом обе двери содрогнулись от первого револьверного выстрела. Прежде чем я успела распахнуть эту и ту двери, грянули три выстрела, а потом я увидела, что комната полна дыма и револьвер в руке моего бедного Патрика тоже дымится, и я видела, как он выпустил последнюю страшную пулю. Потом он прыгнул на отца, который в ужасе прижался к оконному косяку, сцепился с ним и попытался задушить его веревкой, которую накинул ему на шею, но в борьбе веревка соскользнула с плеч и упала к ногам. Потом она захлестнула одну ногу, а Патрик, как безумный, поволок отца. Я схватила с пола нож, кинулась между ними и успела перерезать веревку, а затем лишилась чувств.
– Понятно, – сказал отец Браун все с той же бесстрастной любезностью. – Благодарю вас.
Девушка поникла под бременем тяжких воспоминаний, а священник спокойно ушел в соседнюю комнату, где оставались только Гилдер и Мертон с Патриком Рейсом, который в наручниках сидел на стуле. Отец Браун скромно сказал инспектору:
– Вы позволите мне поговорить с арестованным в вашем присутствии? И нельзя ли на минутку освободить его от этих никчемных наручников?
– Он очень силен, – сказал Мертон вполголоса. – Зачем вы хотите снять наручники?
– Я хотел бы, – смиренно произнес священник, – удостоиться чести пожать ему руку.
Оба сыщика уставились на отца Брауна в недоумении, а тот продолжал:
– Сэр, вы не расскажете им, как было дело?
Сидевший на стуле покачал взъерошенной головой, а священник нетерпеливо обернулся.
– Тогда я расскажу сам, – проговорил он. – Человеческая жизнь дороже посмертной репутации. Я намерен спасти живого, и пускай мертвые хоронят своих мертвецов[43 - Пускай мертвые хоронят своих мертвецов. Мф., 8, 22; Лк., 9, 60.].
Он подошел к роковому окну и, помаргивая, продолжал:
– Я уже говорил вам, что в данном случае перед нами слишком много оружия и всего лишь одна смерть. А теперь я говорю, что все это не служило оружием и не было использовано, дабы причинить смерть. Эти ужасные орудия – петля, окровавленный нож, разряженный револьвер – служили своеобразному милосердию. Их употребили отнюдь не для того, чтобы убить сэра Арона, а для того, чтобы его спасти.
– Спасти! – повторил Гилдер. – Но от чего?
– От него самого, – сказал отец Браун. – Он был сумасшедший и пытался наложить на себя руки.
– Как? – вскричал Мертон, полный недоверия. – А наслаждение жизнью, которое он исповедовал?
– Это жестокое вероисповедание, – сказал священник, выглядывая за окно. – Почему бы ему не поплакать, как плакали некогда его предки? Лучшим его намерениям не суждено было осуществиться, душа стала холодной, как лед: под веселой маской скрывался пустой ум безбожника. Наконец, для того, чтобы поддержать свою репутацию весельчака, он снова начал выпивать, хотя бросил это дело давным-давно. Но в подлинном трезвеннике неистребим ужас перед алкоголизмом: такой человек живет в прозрении и ожидании того психологического ада, от которого предостерегал других. Ужас этот безвременно погубил беднягу Армстронга. Сегодня утром он был в невыносимом состоянии, сидел здесь и кричал, что он в аду, таким безумным голосом, что собственная дочь его не узнала. Он безумно жаждал смерти и с редкостной изобретательностью, свойственной одержимым людям, разбросал вокруг себя смерть в разных обличьях: петлю-удавку, револьвер своего друга и нож. Ройс случайно вошел сюда и действовал немедля. Он швырнул нож на ковер, схватил револьвер и, не имея времени его разрядить, выпустил все пули одна за другой прямо в пол. Но тут самоубийца увидел четвертое обличье смерти и метнулся к окну. Спаситель сделал единственное, что оставалось, – кинулся за ним с веревкой и попытался связать его по рукам и по ногам. Тут-то и вбежала несчастная девушка и, не понимая, из-за чего происходит борьба, попыталась освободить отца. Сперва она только полоснула ножом по пальцам бедняги Ройса, отсюда и следы крови на лезвии. Вы, разумеется, заметили, что, когда он ударил лакея, кровь на лице была, хотя никакой раны не было? Перед тем как упасть без чувств, бедняжка успела перерезать веревку и освободить отца, а он выпрыгнул вот в это окно и низвергся в вечность.
Наступило долгое молчание, которое наконец нарушило звяканье металла – это Гилдер разомкнул наручники, сковывавшие Патрика Ройса, и заметил:
– Думается мне, сэр, вам следовало сразу сказать правду. Вы и эта юная особа стоите больше, чем некролог Армстронга.
– Плевать мне на этот некролог! – грубо крикнул Ройс. – Разве вы не понимаете – я молчал, чтобы скрыть от нее!
– Что скрыть? – спросил Мертон.
– Да то, что она убила своего отца, болван вы этакий! – рявкнул Ройс. – Ведь когда б не она, он был бы сейчас жив. Если она узнает, то сойдет с ума от горя.
– Право, не думаю, – заметил отец Браун, берясь за шляпу. – Пожалуй, я лучше скажу ей сам. Даже роковые ошибки не отравляют жизнь так, как грехи. И во всяком случае, мне кажется, впредь вы будете гораздо счастливее. А я сейчас должен вернуться в школу для глухих.
Когда он вышел на лужайку, где трава колыхалась от ветра, его окликнул какой-то знакомый из Хайгейта:
– Только что приехал следователь. Сейчас начнется дознание.
– Я должен вернуться в школу, – сказал отец Браун. – К сожалению, мне недосуг, и я не могу присутствовать при дознании.
Мудрость отца Брауна
Отсутствие мистера Кана
Пер. Н. Трауберг
Кабинет Ориона Гуда, видного криминолога и консультанта по нервным и нравственным расстройствам, находился в Скарборо, и за окнами его – как и за другими огромными и светлыми окнами – сине-зеленой мраморной стеной стояло Северное море. В таких местах морской вид однообразен, как орнамент; а здесь и в комнатах царил невыносимый, поистине морской порядок. Не надо думать, что речь идет о бедности или скуке, – и роскошь и даже поэзия были там, где им положено. Роскошь была тут – на столике стояло коробок десять самых лучших сигар, но те, что покрепче, лежали у стены, а слабые – поближе. Был здесь и набор превосходных напитков, но люди с воображением утверждали, что уровень виски, бренди и рома никогда не понижался. Была и поэзия – в левом углу стояло столько же английских классиков, сколько стояло в правом английских и прочих филологов. Но если кто-нибудь брал оттуда Шелли или Чосера, пустое место зияло, словно вырванный передний зуб. Нельзя сказать, что книги не читали – читали, наверное; и все же казалось, что они прикреплены цепью, как Библия в старых церквах[44 - ...Библия в старых церквах. – Чтобы уберечь дорогой оклад от церковных воров, Библию прикрепляли цепью к кафедре. – Примеч. пер.]. Доктор Гуд чтил свою библиотеку, как чтут библиотеки публичные. И если профессорская строгость охраняла стихи и бутылки, нечего и говорить, с каким торжественным почтением служили здесь ученым трудам и хрупким, как в сказке, ретортам.
Доктор Орион Гуд мерил шагами пространство, ограниченное (как говорят в учебниках) Северным морем с востока, а с запада – рядами книг по социологии и криминалистике. Он был в бархатной куртке, как художник, но носил ее без всякой небрежности. Волосы его сильно поседели, но не поредели; лицо было худое, но бодрое. И он и его жилище казались и тревожными, и строгими, как море, у которого он (ради здоровья, конечно) построил себе дом.
Судьба, по-видимому шутки ради, впустила в длинные, строгие, очерченные морем комнаты человека, до удивления непохожего на них и на их владельца. В ответ на вежливое, краткое «прошу» дверь открылась вовнутрь, и в кабинет вошел бесформенный человечек, безуспешно боровшийся с зонтиком и шляпой. Зонтик был черный, старый, давно не ведавший починки; шляпа – широкополая, редкая в этих краях; владелец же их казался воплощением беззащитности.
Хозяин со сдержанным удивлением глядел на него, как глядел бы на громоздкое, безвредное чудище, выползшее из моря. Пришелец смотрел на хозяина, сияя и отдуваясь, словно толстая служанка, втиснувшаяся в омнибус; как она, он светился наивным торжеством и никак не мог управиться с вещами. Когда он сел в кресло, шляпа упала, упал и зонтик; он наклонился, чтоб их поднять, но круглое радостное лицо было обращено к хозяину.
– Моя фамилия Браун, – проговорил он. – Простите меня, пожалуйста. Я из-за Макнэбов. Говорят, вы в этих делах помогаете. Простите, если что не так.
Он изловил шляпу и как-то смешно кивнул, словно радовался, что все в порядке.
– Я не совсем понимаю, – сказал ученый сдержанно и холодновато. – Боюсь, вы ошиблись адресом. Я – доктор Гуд. Я пишу и преподаю. Действительно, несколько раз полиция обращалась ко мне по особо важным вопросам…
– Это как раз очень важно! – прервал его гость-коротышка. – Вы подумайте, ее мать не дает им пожениться! – И он откинулся в кресле, явно торжествуя.