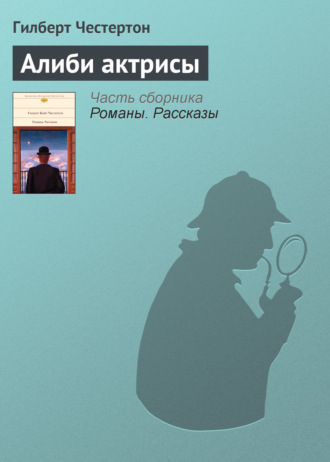
Алиби актрисы

Гилберт Кийт Честертон
Алиби актрисы
Мистер Мэкдон Мандевиль, хозяин труппы, быстро шел по коридору за сценой или, вернее, под сценой. Он был элегантен, быть может, даже слишком элегантен: элегантна была бутоньерка в петлице его пиджака, элегантно сверкала его обувь, но наружность у него была совсем не элегантная. Был он крупным мужчиной с бычьей шеей и густыми бровями, насупленными сегодня еще сильнее, чем обычно. Правда, человека в его положении ежедневно осаждают сотни мелких и крупных, старых и новых забот. Ему было неприятно проходить по коридору, где свалили декорации старых пантомим – с этих популярных пьес он начал здесь свою карьеру, но потом ему пришлось перейти на более серьезный классический репертуар, который съел немалую часть его состояния. Поэтому «Сапфировые ворота дворца Синей Бороды» и куски «Зачарованного, или Золотого грота», покрытые паутиной или изгрызенные мышами, не вызывали в нем того сладостного чувства возвращения к простоте, которое мы испытываем, когда нам дадут заглянуть в сказочный мир детства. У него даже не было времени уронить слезу над своей потерей или помечтать о детском рае: он спешил уладить весьма прозаический конфликт, какие иногда случаются в странном закулисном мире. На сей раз скандал был достаточно велик, чтобы отнестись к нему серьезно. Мисс Марони, талантливая молодая итальянка, игравшая одну из главных ролей в пьесе, которую должны были репетировать в то утро (вечером была премьера), внезапно наотрез отказалась играть. Мистер Мандевиль еще не видел сегодня капризной дамы; и так как она заперлась в своей уборной и скандалила за дверью, трудно было надеяться, что он увидится с ней. Мистер Мандевиль был настоящий англичанин и поэтому проворчал, что все иностранцы сумасшедшие. Но мысль о выпавшем на его долю исключительном счастье – обитать в единственной нормальной стране – утешала его не больше, чем «Золотой грот». Все это было в достаточной степени неприятно; и все же внимательный наблюдатель заметил бы, что у мистера Мандевиля есть и более серьезные заботы.
Каково бы ни было тайное горе, мучившее его, оно, по-видимому, гнездилось в самом конце длинного темного коридора – там, где помещался его небольшой кабинет: проходя по коридору, он то и дело нервно оглядывался.
Но дело есть дело, и мистер Мандевиль решительно направился в противоположный конец коридора, где зеленая дверь уборной мисс Марони бросала вызов всему свету. Кучка актеров и прочих заинтересованных лиц толпилась у этой двери: можно было подумать, что они обсуждают, не пустить ли в дело таран. Один из них был известен широкой публике, фотографии его красовались на многих каминах, а автографы – во многих альбомах. Правда, Норман Найт служил в немного отсталом и провинциальном театре, где его амплуа еще называлось героем-любовником, но путь его лежал к более славным триумфам. Он был красив; сильный раздвоенный подбородок и светлая челка придавали ему некоторое сходство с Нероном и не совсем вязались с его резкими, порывистыми движениями. Подле него стоял Ральф Рандол, пожилой характерный актер с насмешливым, острым лицом, синим от частого бритья и бесцветным от частого грима. Тут же был и второй любовник труппы, игравший чаще всего еще не совсем исчезнувшие роли «наперсника героя», – смуглый кудрявый юноша по имени Обри Вернон.
Была тут и горничная, или костюмерша, жены Мандевиля – весьма грозная особа с прилизанными рыжими волосами и твердым деревянным лицом. Была тут, между прочим, и сама жена Мандевиля, державшаяся на заднем плане, – тихая женщина с терпеливым лицом, классическим, строгим, удивительно бледным из-за светлых глаз и почти бесцветных волос, расчесанных на прямой пробор, как у очень древней мадонны. Мало кто знал, что некогда она была серьезной актрисой на роли интеллектуальных ибсеновских героинь. Но ее супруг был невысокого мнения о пьесах «с проблемами»; сейчас, во всяком случае, его больше интересовала другая проблема – как извлечь упрямую итальянку из ее уборной.
– Она еще не вышла? – спросил он, обращаясь не столько к жене, сколько к ее деловитой костюмерше.
– Нет, сэр, – мрачно ответила миссис Сэндс (так ее звали).
– Черт! – сказал Мандевиль со свойственной ему простотой. – Реклама – хорошая вещь, но такого рода реклама нам не нужна. Есть у нее друзья? Неужели она никого не слушается?
– Джервис говорит, с ней может справиться только ее священник, – сказал Рандол. – Если она там вешается на крючке для шляп, ему бы и в самом деле лучше прийти. В общем, Джервис за ним пошел. Да вот и он сам.
Еще двое появились в конце коридора, проходящего под сценой. Один из них был Эштон Джервис, добрый человек, обычно игравший злодеев, но на сей раз передавший эту высокую честь курчавому, носатому Вернону. Другой, низенький и круглый, одетый во все черное, был отец Браун – священник из церкви, расположенной за углом.
– Я думаю, у нее были какие-нибудь основания так разобидеться, – сказал он. – Никто не знает, что случилось?
– Кажется, она недовольна своей ролью, – ответил старый актер.
– Это с ними всегда бывает! – пробурчал мистер Мандевиль. – А я думал, что моя жена все правильно распределила.
– Я отдала ей лучшую роль, – устало промолвила миссис Мандевиль. – Ведь все ушибленные театром девицы мечтают сыграть молодую красавицу героиню и выйти за молодого красавца героя под гром аплодисментов с галерки. Актриса моего возраста, конечно, должна отступить на задний план и играть почтенных матрон. Так я и сделала.
Отец Браун пробрался вперед и прислушивался, стоя у запертой двери.
– Ничего не слышно? – боязливо спросил Мандевиль и добавил тихо: – Как вы думаете, она ничего не натворила?
– Кое-что слышно, – спокойно ответил священник. – Судя по звуку, она разбивает окно или зеркало, по всей вероятности ногами. С собой она не покончит, в этом я уверен. Перед самоубийством не бьют зеркала ногами. Если бы она была немкой и заперлась, чтобы поразмыслить на метафизические темы, я непременно предложил бы взломать дверь. Но итальянцы умирают не так-то просто; они не способны покончить с собой в припадке ярости. Вот кого-нибудь убить… да, это они могут… Так что будьте поосторожней, если она выскочит.
– Стало быть, вы не советуете взламывать дверь? – спросил Мандевиль.
– Нет, если вы хотите, чтобы она играла, – ответил отец Браун. – Если вы взломаете дверь, она поднимет содом и уйдет из театра. Если вы оставите ее в покое, она, вероятнее всего, выйдет – просто из любопытства. Я бы, на вашем месте, оставил кого-нибудь сторожить дверь, а сам запасся терпением часа на два.
– В таком случае, – сказал Мандевиль, – давайте репетировать те сцены, в которых она не занята. Моя жена позаботится о реквизите. В конце концов, самый важный акт – четвертый. Начнем?
– Что вы репетируете? – спросил священник.
– «Школу злословия», – сказал Мандевиль. – Может, это и хорошая литература, но мне нужны пьесы. А жене нравятся эти классические комедии. По-моему, в них больше классики, чем смеха.
В эту минуту к ним подошел, ковыляя, старик привратник, которого все звали просто Сэмом, – единственный обитатель театра в те часы, когда нет ни репетиций, ни спектаклей. Он дал хозяину визитную карточку и сообщил, что его хочет видеть леди Мириам Марден. Мистер Мандевиль ушел, а отец Браун еще несколько секунд смотрел на его жену и увидел, что по ее увядшему лицу блуждает слабая, невеселая улыбка.
Потом он тоже вышел в фойе вместе с актером, который его привел, – своим близким другом и единоверцем, что не так уж редко в театральной среде. Уходя, он слышал, как миссис Мандевиль все тем же ровным тоном приказывала миссис Сэндс занять пост часового у запертой двери.
– Миссис Мандевиль, как видно, умная женщина, – сказал священник, – хотя и держится все время в тени.
– Когда-то она была очень интеллигентной, – грустно сказал Джервис. – Она отцвела и опустилась, выйдя замуж за такое ничтожество, как Мандевиль. У нее самые высокие театральные идеалы. Но, разумеется, ей не часто удается привить их своему супругу и повелителю. Вы представляете, он хотел, чтобы такая женщина, как она, играла мальчишек в балаганных пантомимах! Он признавал, что она хорошая актриса, но говорил, что пантомимы выгодней. Из этого вы можете заключить, как чутко и внимательно он относится к людям. Но она никогда не жаловалась. Как-то она мне сказала: «Жалобы всегда возвращаются к нам, как эхо с другого конца света; а молчание укрепляет нашу душу».
И он указал на широкую черную спину Мандевиля, беседовавшего с двумя дамами, которые вызвали его в фойе. Леди Мириам была высокой, томной и элегантной дамой, красивой той современной красотой, которая взяла за образец египетскую мумию. Ее черные прямые стриженые волосы казались шлемом, а сильно накрашенные губы оттопыривались, что придавало лицу презрительное выражение. Ее спутница была очень живая дама с некрасивым, но привлекательным лицом и волосами, как бы посыпанными серебряной пудрой. Звали ее мисс Тереза Тальбот. Говорила главным образом она, леди Мириам казалась слишком усталой, чтобы говорить. Только когда Браун и Джервис проходили мимо, она нашла в себе силы сказать:
– Театр, вообще говоря, – скука. Но я никогда не видела репетиции в обыкновенных костюмах. Может быть, это забавно… В наши дни так трудно найти что-нибудь новое…
– Конечно, я могу дать вам ложу, – поспешно ответил Мандевиль. – Будьте добры, пройдите сюда. – И он повел их в другой коридор.
– Интересно, – задумчиво промолвил Джервис, – этот ли сорт женщин предпочитает Мандевиль?
– А какие у вас причины думать, – спросил священник, – что он вообще предпочитает кого-нибудь собственной жене?
Прежде чем ответить, Джервис не меньше секунды смотрел на него.
– Мандевиль – загадка, – серьезно сказал он. – Да-да, я знаю, что он похож на самого среднего обывателя. И тем не менее он – загадка. У него что-то на совести. Его жизнь что-то омрачает. Я совершенно случайно знаю об этом больше всех. Но я не могу понять то, что знаю.
Он огляделся – нет ли кого поблизости – и прибавил, понизив голос:
– Я не боюсь рассказать вам, ведь вы крепко храните тайны. Вчера меня очень поразила одна вещь. Вы знаете, что Мандевиль работает в маленьком кабинете в конце коридора, прямо под сценой. Так вот, мне дважды пришлось пройти мимо, когда все думали, что он там один. Более того, я оба раза точно знал, где все женщины из нашей труппы. Одни были у себя, других не было уже в театре.
– Все женщины? – переспросил Браун.
– У него была женщина, – почти шепотом сказал Джервис. – Какая-то женщина постоянно ходит к нему, и никто из нас ее не знает. Я даже не знаю, как она туда попадает – вход только из коридора. Кажется, я как-то видел какую-то даму в вуали или в капюшоне. Она бродила, точно призрак, около театра. Но это не призрак. Я думаю, это и не «интрижка». Скорее всего, тут пахнет шантажом.
– Почему? – спросил Браун.
– Потому, – сказал Джервис уже не серьезно, а мрачно, – что я слышал, как они ссорились. И под конец она сказала звонко и грозно три слова: «Я – твоя жена».
– Вы думаете, он двоеженец? – задумчиво сказал отец Браун. – Что ж, двоеженство и шантаж идут рука об руку. Кстати, репетиция, кажется, началась…
– Я не занят в этой сцене, – улыбнулся Джервис. – Сейчас репетируют только один акт – ждут, пока одумается ваша итальянка.
– А ведь верно, – заметил священник. – Интересно, одумалась ли она?
– Мы можем вернуться и поглядеть, если хотите, – сказал Джервис, и они снова спустились в коридор, одним концом упиравшийся в кабинет Мандевиля, а другим – в уборную синьорины Марони.
Недалеко от другого конца коридора они увидели актеров, поднимавшихся по лесенке на сцену. Впереди шли Вернон и старик Рандол – они очень торопились; миссис Мандевиль шла за ними своей обычной размеренной поступью, а Норман Найт, кажется, отстал нарочно, чтобы поговорить с ней. Браун и Джервис услышали обрывок их разговора.
– Я вам говорю, к нему ходит женщина! – гневно говорил Найт.
– Тсс! – отвечала миссис Мандевиль своим серебристым голосом, в котором все же звенела сталь. – Вы не должны со мной так говорить. Помните, что он – мой муж.
– Хотел бы я об этом забыть! – сказал Найт и бросился на сцену.
– Не вы один знаете, – спокойно сказал Браун, – но вряд ли это наше дело.
– Да, – пробормотал Джервис. – Похоже на то, что это знают все, но об этом никто ничего не знает.
Они подошли к тому концу коридора, где грозный страж охранял итальянскую дверь.
– Нет, не выходила, – мрачно сказала миссис Сэндс. – И не умерла, двигается. Не пойму, какие она там еще фокусы задумывает.
– А вы случайно не знаете, мадам, – с неожиданной изысканностью обратился к ней Браун, – где сейчас мистер Мандевиль?
– Знаю, – ответила она. – Видела, прошел в кабинет минуты две назад. Только он вошел – помощник позвал всех на сцену и занавес подняли. Значит, там и сидит, вроде не выходил.
– Вы хотите сказать, что в его кабинете только один выход, – небрежно заметил Браун. – Ну, кажется, репетиция идет, несмотря на все причуды синьорины Марони.
– Да, – ответил Джервис, помолчав. – Я отсюда слышу голоса актеров. У старика Рандола прекрасно поставленный голос.
Оба замерли, прислушиваясь. Зычный голос старого актера действительно донесся до них. Но прежде чем они заговорили снова, до них донесся и другой звук.
Это был грохот, и раздался он за закрытой дверью маленького кабинета.
Браун пронесся по коридору, как выпущенная из лука стрела, и, прежде чем Джервис очнулся и побежал за ним, он уже дергал изо всех сил ручку двери.
– Заперто, – сказал он, поворачивая к актеру чуть побледневшее лицо. – Эту дверь надо взломать сейчас же.
– Вы думаете, – испуганно спросил Джервис, – что таинственная дама опять там? По-вашему, случилось… что-нибудь серьезное? – И прибавил, помолчав: – Кажется, я могу отворить. Я знаю такие замки.
Он опустился на колени, достал из кармана перочинный ножик с длинным лезвием, покопался немного в замке, и дверь распахнулась. Войдя, они сразу заметили, что в комнате нет второй двери и даже окна, а на столе горит большая лампа. Но еще раньше они увидели, что Мандевиль лежит ничком посредине комнаты и струйки крови ползут из-под его лица, словно алые змейки, зловеще сверкающие в этом неестественном пещерном свете.
Они не знали, как долго они глядели друг на друга, пока Джервис не сказал, словно освобождаясь от трудной мысли:
– Если та женщина сюда вошла, она как-то вышла.
– Может быть, мы о ней слишком много думаем, – сказал отец Браун. – В этом странном театре творится так много странного, что не все запоминаешь.
– О чем вы? – быстро спросил Джервис.
– О многом, – сказал Браун. – Ну, хотя бы о другой запертой двери.
– Да ведь в том-то и дело, что она заперта! – воскликнул актер.
– Тем не менее вы про нее забыли, – сказал священник.
Он помолчал, потом задумчиво добавил:
– Эта миссис Сэндс – довольно неприятная особа.
– Вы думаете, она соврала и мисс Марони вышла из уборной? – тихо спросил актер.
– Нет, – спокойно ответил священник. – Это просто-напросто отвлеченное предположение.
– Неужели вы думаете, – крикнул актер, – что его убила миссис Сэндс?
– А это и вовсе нельзя предположить, – сказал отец Браун.
Пока они обменивались этими короткими фразами, Браун встал на колени около тела и удостоверился, что перед ними труп. Недалеко, но так, что с порога его не было видно, лежал театральный кинжал; казалось, он выпал из раны или из рук убийцы. Джервис сразу увидел, что кинжал – из реквизита и ни о чем не говорит; разве что эксперты найдут на нем отпечатки пальцев. Тогда священник встал и внимательно оглядел комнату.
– Надо послать за полицией, – сказал он. – И за доктором; хоть это и поздно… Вот я смотрю на комнату и не понимаю, как наша итальянка могла это сделать.
– Итальянка? – воскликнул Джервис. – Ну нет! По-моему, если у кого есть алиби, так только у нее. Две комнаты, обе заперты, в разных концах коридора, и у одной еще сидит часовой.
– Нет, – сказал Браун. – Не совсем так. Вопрос в том, как она проникла сюда, а как она выбралась из своей уборной, я себе представляю.
– Неужели? – спросил Джервис.
– Я говорил вам, – сказал отец Браун, – что я слышал, как разбилось стекло – окно или зеркало. По глупости я забыл одну хорошо мне известную вещь: синьорина Марони очень суеверна. Она ни за что не разбила бы зеркала. Значит, она разбила окно. Правда, ее уборная в подвальном этаже, но там, наверное, есть какое-нибудь окошко на улицу или во двор. А вот тут нет никаких окон.
Он поднял голову и долго разглядывал потолок. Вдруг он быстро заговорил:
– Надо подняться наверх, позвонить, всем сказать… Какой ужас! Господи… Слышите? Они там кричат, декламируют. Комедия продолжается. Кажется, это называют трагической иронией.
Когда театр волею судьбы превратился в дом скорби, всей труппе предоставилась возможность проявить удивительные качества, присущие актерам. Мужчины вели себя как истинные джентльмены, а не только как герои-любовники. Не все любили Мандевиля, и не все доверяли ему, но они сумели сказать о нем именно то, что нужно. А по отношению к вдове они проявили не только сочувствие, но и величайшую деликатность.
– Она всегда была сильной женщиной, – говорил старик Рандол. – Во всяком случае, она умнее всех нас. Конечно, бедняге Мандевилю до нее далеко, но она всегда была ему образцовой женой. Как трогательно она иногда говорила: «Хотелось бы жить более интеллектуальной жизнью…» А Мандевиль… Впрочем, о мертвых – ничего, кроме хорошего. Так, кажется, говорят?
И старик отошел, грустно качая головой.
– Как же, «ничего, кроме хорошего»! – хмуро заметил Джервис. – Впрочем, он, я думаю, не знает о таинственной посетительнице. Кстати, вам не кажется, что его убила загадочная женщина?
– Это зависит от того, – сказал священник, – кого вы называете загадочной женщиной.
– Ну не итальянку же! – поспешно сказал Джервис. – Да, в отношении ее вы были совершенно правы. Когда взломали дверь, оказалось, что окошко наверху разбито и комната пуста. Но, насколько удалось выяснить полиции, она просто-напросто пошла домой. Нет, я имею в виду женщину, которая ему тайно угрожала, женщину, которая называла себя его женой. Как вы думаете, она действительно его жена?
– Возможно, – сказал отец Браун, глядя в пространство, – что она его жена.
– Тогда есть мотив: ревность, – сказал Джервис. – Она ревновала его ко второй жене. Ведь у него ничего не взяли, так что нечего строить догадки о вороватых слугах или бедствующих актерах. А вот вы заметили странную, исключительную особенность?
– Я заметил много странного, – сказал отец Браун. – Вы о чем?
– Я имею в виду общее алиби, – сказал Джервис. – Не случается, чтобы у всех сразу было такое алиби: они играли на освещенной сцене, и все могут друг за друга поручиться. Нашим положительно повезло, что бедняга Мандевиль посадил в ложу тех дамочек. Они могут засвидетельствовать, что весь акт прошел без сучка и задоринки и никто не уходил со сцены. Репетицию начали именно тогда, когда Мандевиль ушел к себе. И, по счастливому совпадению, в ту секунду, когда мы услышали грохот, все были заняты в общей сцене.
– Да, это действительно очень важно и упрощает задачу, – согласился Браун. – Давайте посчитаем, у кого именно это алиби. Во-первых, Рандол. По-моему, он терпеть не мог директора, хотя теперь старательно скрывает свои чувства. Но его надо исключить – именно его голос донесся к нам тогда со сцены. Далее – мистер Найт. У меня есть основания думать, что он влюблен в миссис Мандевиль и не скрывает своих чувств. Но и он вне подозрения – он тоже был на сцене, на него и кричал Рандол. На сцене были Обри Вернон, миссис Мандевиль – стало быть, исключим и их. Их общее алиби, как вы это назвали, зависит преимущественно от леди Мириам и ее подруги. Правда, и здравый смысл подсказывает, что если акт прошел гладко – значит, перерыва не было. Но законны, с точки зрения суда, только показания леди Мириам и ее подруги, мисс Тальбот. Они-то вне подозрения, как вы полагаете?
– Леди Мириам? – удивленно переспросил Джервис. – Вас, наверное, смущает, что она похожа на вампира. Но вы и не знаете, как нынче выглядят дамы из лучшего общества… Почему нам сомневаться в их словах?
– Потому что они опять заводят нас в тупик, – сказал Браун. – Разве вы не видите, что это алиби фактически исключает всех? Кроме тех четырех, ни одного актера не было в театре. И служители вряд ли были, только Сэм сторожил вход, а та женщина была у двери мисс Марони. Значит, остаемся только мы с вами. Нас, безусловно, могут обвинить, тем более что мы нашли труп. Больше обвинять некого. Вы его не убили, когда я отвернулся?
Джервис взглянул на него, замер на секунду, снова широко улыбнулся и покачал головой.
– Вы его не убили, – сказал отец Браун. – Допустим на минуту, исключительно для связности, что и я его не убивал. Актеры, бывшие на сцене, вне подозрения, так что остаются итальянка за дверью, горничная перед дверью и старик Сэм. А может, вы думаете о дамах в ложе? Конечно, они могли незаметно выскользнуть.
– Нет, – сказал Джервис, – я думаю о незнакомке, которая пришла к Мандевилю и сказала, что она его жена.
– Может быть, она и была его женой, – сказал священник, и на этот раз его ровный голос звучал так, что его собеседник вскочил на ноги и перегнулся через стол.
– Мы говорили, – сказал он тихо и нетерпеливо, – что первая жена могла ревновать его ко второй.
– Нет, – возразил Браун. – Она могла ревновать к итальянке или, скажем, к леди Мириам. Но ко второй жене она не ревновала.
– Почему?
– Потому что второй не было, – сказал отец Браун. – Мандевиль – не двоеженец. Он, по-моему, исключительно моногамен. Его жена бывала с ним, я сказал бы, слишком часто – так часто, что вы по широте душевной решили, что это другая. Но я не могу понять, как она сумела быть с ним тогда. Она все время была на сцене. Ведь она играла одну из главных ролей…
– Неужели вы всерьез думаете, – воскликнул Джервис, – что незнакомка – просто миссис Мандевиль?
Ответа не было. Браун смотрел в пространство бессмысленным, почти идиотским взглядом. Он всегда казался идиотом, когда его ум работал особенно напряженно.
– Какой ужас, – сказал он. – По-моему, это самое тяжелое из всех моих дел. Но я должен через это пройти. Будьте добры, пойдите к миссис Мандевиль и спросите ее, не могу ли я поговорить с ней с глазу на глаз.
– Пожалуйста! – сказал Джервис и направился к выходу. – Но что с вами?
– Ах, я просто дурак, – ответил Браун. – Это часто бывает в нашей юдоли слез. Я такой дурак, что забыл, какую пьесу они репетируют.
Он беспокойно шагал по комнате, пока не вернулся Джервис.
– Ее нигде нет, – сказал он. – Никто ее не видел.
– И Нормана Найта, наверное, тоже никто не видел? – сухо спросил отец Браун. – Ну что ж, мне удалось избежать самого тяжелого в моей жизни разговора. Я чуть было не испугался этой женщины. Но и она меня испугалась – испугалась каких-то моих слов или решила, что я что-то увидел. Найт все время умолял ее бежать с ним. Ну вот, она бежала, и мне его от всей души жаль.
– Его? – спросил Джервис.
– Не так уж приятно бежать с убийцей, – бесстрастно сказал его друг. – А она ведь гораздо хуже, чем убийца.
– Кто же хуже убийцы?
– Эгоист, – сказал отец Браун. – Она из тех, кто смотрит в зеркало раньше, чем взглянуть в окно, а это самое скверное, на что способен человек. Что ж, зеркало принесло ей несчастье именно потому, что не было разбито.
– Я ничего не понимаю, – сказал Джервис. – Все думали, что у нее самые высокие идеалы… что она в духовном плане гораздо выше нас.
– Она сама так думала, – сказал отец Браун. – И умела внушить это всем. Может быть, я в ней не ошибся потому, что так мало ее знал. Я понял, кто она такая, в первые же пять минут.
– Ну что вы! – воскликнул Джервис. – С итальянкой она вела себя безукоризненно.
– Она всегда вела себя безукоризненно, – сказал Браун. – В вашем театре мне все рассказывали, какая она тонкая и деликатная и насколько она духовно выше бедняги Мандевиля. Но все эти тонкости и деликатности сводились в конце концов к тому, что она – леди, а он – не джентльмен. Знаете, я не совсем уверен, что в рай пускают именно по этому признаку.
Что касается прочего, – продолжал он все горячее, – я из первых ее слов понял, что она поступила не совсем честно с бедной итальянкой, несмотря на всю свою утонченность и холодное великодушие. Об этом я тоже догадался, когда узнал, что у вас идет «Школа злословия».
– Не спешите так! – растерянно сказал Джервис. – Не все ли равно, какая идет пьеса?









