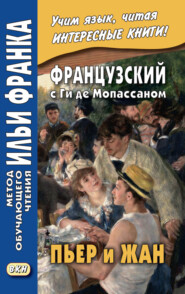По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Жизнь
Автор
Жанр
Год написания книги
1883
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Жанна хотела поцеловать ее, но та сопротивлялась, закрывалась одеялом. Тогда вмешалась сиделка и открыла ей лицо; Розали подчинилась, продолжая плакать, но уже тише.
Слабый огонь тлел в камине; было холодно; ребенок кричал. Жанна не решалась заговорить о малютке из боязни вызвать новый приступ слез и только взяла горничную за руку, машинально повторяя:
– Ну, ничего, ну, ничего.
Бедная девушка украдкой поглядывала на сиделку и вздрагивала, когда кричал ребенок; по временам ее сдерживаемая скорбь прорывалась в конвульсивных всхлипываниях, а подступавшие слезы клокотали в горле.
Жанна еще раз поцеловала ее и едва слышно шепнула на ухо:
– Мы позаботимся о нем, дорогая.
Тут начался новый приступ слез, и Жанна поспешила уйти.
Каждый день она приходила к Розали, и каждый раз при виде хозяйки служанка начинала рыдать.
Ребенка отдали по соседству кормилице.
Жюльен между тем едва разговаривал с женой, словно затаил против нее сильную злобу с тех пор, как она отказалась прогнать горничную. Как-то раз он снова вернулся к этой теме, но Жанна в ответ вытащила из кармана письмо баронессы, в котором та требовала, чтоб ей немедленно прислали девушку, если не хотят оставить ее в «Тополях».
Жюльен в бешенстве крикнул:
– Твоя мать такая же сумасшедшая, как и ты!
Но больше он уже не настаивал.
Через две недели роженица смогла встать с постели и снова принялась за работу.
Однажды утром Жанна усадила ее, взяла за руки и, пристально глядя на нее, сказала:
– Слушай, милая, расскажи мне все.
Розали начала дрожать и пролепетала:
– Что, госпожа?
– От кого ребенок?
Тогда горничной снова овладело страшное отчаяние; она растерянно старалась высвободить руки и закрыть ими лицо.
Но Жанна насильно поцеловала ее и попыталась утешить:
– Это, конечно, несчастье, дорогая, но что же делать? Ты не устояла, это случается и с другими. Если отец ребенка женится на тебе, все забудется, и мы сможем взять его вместе с тобою на службу.
Розали стонала, словно ее пытали, и время от времени порывалась вырваться и убежать.
Жанна продолжала:
– Я понимаю, что тебе стыдно, но ты же видишь: я не сержусь и говорю с тобой ласково. Если я спрашиваю имя этого человека, то для твоего же блага; ведь я чувствую по тому, как ты страдаешь, что он тебя бросил, и хочу помешать этому. Жюльен найдет его, и знай, мы заставим его жениться на тебе; а так как вы оба останетесь у нас, то мы также заставим его сделать тебя счастливой.
На этот раз Розали дернулась так сильно, что вырвала свои руки из рук госпожи, и убежала как помешанная.
Вечером за обедом Жанна сказала Жюльену:
– Я хотела заставить Розали открыть мне имя ее обольстителя. Мне это не удалось. Попробуй ты; надо же принудить этого негодяя жениться на ней.
Но Жюльен сразу же вспылил:
– Знаешь, я не желаю больше и слышать об этой истории. Ты захотела оставить у себя эту девушку, пусть так и будет; но не надоедай мне с этим делом.
Казалось, со дня родов Розали он стал еще раздражительнее; он усвоил привычку разговаривать с женой не иначе, как крича, точно он всегда был взбешен на нее, хотя она, напротив, понижала голос и говорила ласково, в примирительном тоне, чтобы избежать всяких пререканий; лежа в постели по ночам она теперь нередко плакала.
Несмотря на постоянное раздражение против жены, муж вернулся снова к обязанностям любви, совершенно забытым со времени их возвращения, и редко проходило подряд три вечера, чтоб он не переступал порога супружеской спальни.
Розали вскоре совсем оправилась и стала менее печальной, хотя все еще оставалась какой-то подавленной и словно преследуемой непонятным страхом.
Еще два раза убегала она от Жанны, когда та снова пыталась расспрашивать ее.
Жюльен сделался вдруг также более приветливым, и у молодой женщины вновь зашевелились неясные надежды; к ней вновь вернулось веселое настроение, хотя она и чувствовала по временам какое-то странное недомогание, о котором никому не говорила.
Оттепели еще не было, и в продолжение почти пяти недель небо, днем ясное, как голубой кристалл, а ночью все усеянное звездами, которые можно было принять за иней – до того морозно было все это огромное пространство, – расстилалось над однообразным, твердым, сверкающим покровом снегов.
Фермы, огороженные квадратными двориками, заслоненные громадными деревьями, напудренными инеем, казалось, уснули в белых рубашках. Ни люди, ни животные не выходили наружу, и только трубы хижин свидетельствовали о скрытой жизни тонкими струйками дыма, поднимавшимися прямо ввысь в морозном воздухе.
Равнина, изгороди, вязы у заборов – все, казалось, было мертво, убито холодом. Время от времени слышался треск деревьев, словно их деревянные конечности ломались под корой; иногда отрывалась и падала толстая ветка: это от сильной стужи застывал древесный сок и разрывались волокна.
Жанна с тоской ждала возвращения теплого ветра, приписывая мучившие ее необъяснимые недомогания суровости климата этого времени года.
То она не могла ничего есть, чувствуя отвращение ко всякой пище; то ее пульс начинал безумно биться; то самое легкое кушанье вызывало у нее расстройство пищеварения; вдобавок из-за вечно натянутых нервов она волновалась по любому поводу и жила в постоянном нестерпимом возбуждении.
Однажды вечером термометр упал еще ниже. Жюльен, выходя из-за стола и дрожа (зал никогда не бывал достаточно натоплен из-за экономии дров), пробормотал, потирая руки:
– Хорошо будет сегодня спать вдвоем, не правда ли, кошечка?
Он засмеялся своим прежним добрым, детским смехом, и Жанна бросилась к нему на шею; но именно в этот вечер ей было так не по себе, так нездоровилось, она чувствовала себя такой нервной, что, целуя мужа в губы, чуть слышно попросила его оставить ее спать одну. В нескольких словах она сказала ему о своем недомогании.
– Прошу тебя об этом, милый, уверяю тебя, мне очень нехорошо; завтра мне, наверно, будет лучше.
Он не настаивал:
– Как хочешь, дорогая: если ты больна, то надо поберечься.
И они заговорили о другом.
Она легла рано. Жюльен, против обыкновения, приказал затопить камин в своей комнате. Когда ему сказали, что «разгорелось хорошо», он поцеловал жену в лоб и ушел.
Весь дом, казалось, был во власти холода: стены, пронизанные им, слегка потрескивали, точно от озноба, и Жанна дрожала в своей постели.
Два раза она вставала, чтобы подложить в камин дров и достать все свои платья, юбки, старую одежду, и наваливала все это на постель. Ничто не могло ее согреть: ноги у нее онемели, а по икрам до самых бедер пробегала дрожь, заставлявшая ее беспрестанно ворочаться, волноваться и нервничать до последней степени.
Слабый огонь тлел в камине; было холодно; ребенок кричал. Жанна не решалась заговорить о малютке из боязни вызвать новый приступ слез и только взяла горничную за руку, машинально повторяя:
– Ну, ничего, ну, ничего.
Бедная девушка украдкой поглядывала на сиделку и вздрагивала, когда кричал ребенок; по временам ее сдерживаемая скорбь прорывалась в конвульсивных всхлипываниях, а подступавшие слезы клокотали в горле.
Жанна еще раз поцеловала ее и едва слышно шепнула на ухо:
– Мы позаботимся о нем, дорогая.
Тут начался новый приступ слез, и Жанна поспешила уйти.
Каждый день она приходила к Розали, и каждый раз при виде хозяйки служанка начинала рыдать.
Ребенка отдали по соседству кормилице.
Жюльен между тем едва разговаривал с женой, словно затаил против нее сильную злобу с тех пор, как она отказалась прогнать горничную. Как-то раз он снова вернулся к этой теме, но Жанна в ответ вытащила из кармана письмо баронессы, в котором та требовала, чтоб ей немедленно прислали девушку, если не хотят оставить ее в «Тополях».
Жюльен в бешенстве крикнул:
– Твоя мать такая же сумасшедшая, как и ты!
Но больше он уже не настаивал.
Через две недели роженица смогла встать с постели и снова принялась за работу.
Однажды утром Жанна усадила ее, взяла за руки и, пристально глядя на нее, сказала:
– Слушай, милая, расскажи мне все.
Розали начала дрожать и пролепетала:
– Что, госпожа?
– От кого ребенок?
Тогда горничной снова овладело страшное отчаяние; она растерянно старалась высвободить руки и закрыть ими лицо.
Но Жанна насильно поцеловала ее и попыталась утешить:
– Это, конечно, несчастье, дорогая, но что же делать? Ты не устояла, это случается и с другими. Если отец ребенка женится на тебе, все забудется, и мы сможем взять его вместе с тобою на службу.
Розали стонала, словно ее пытали, и время от времени порывалась вырваться и убежать.
Жанна продолжала:
– Я понимаю, что тебе стыдно, но ты же видишь: я не сержусь и говорю с тобой ласково. Если я спрашиваю имя этого человека, то для твоего же блага; ведь я чувствую по тому, как ты страдаешь, что он тебя бросил, и хочу помешать этому. Жюльен найдет его, и знай, мы заставим его жениться на тебе; а так как вы оба останетесь у нас, то мы также заставим его сделать тебя счастливой.
На этот раз Розали дернулась так сильно, что вырвала свои руки из рук госпожи, и убежала как помешанная.
Вечером за обедом Жанна сказала Жюльену:
– Я хотела заставить Розали открыть мне имя ее обольстителя. Мне это не удалось. Попробуй ты; надо же принудить этого негодяя жениться на ней.
Но Жюльен сразу же вспылил:
– Знаешь, я не желаю больше и слышать об этой истории. Ты захотела оставить у себя эту девушку, пусть так и будет; но не надоедай мне с этим делом.
Казалось, со дня родов Розали он стал еще раздражительнее; он усвоил привычку разговаривать с женой не иначе, как крича, точно он всегда был взбешен на нее, хотя она, напротив, понижала голос и говорила ласково, в примирительном тоне, чтобы избежать всяких пререканий; лежа в постели по ночам она теперь нередко плакала.
Несмотря на постоянное раздражение против жены, муж вернулся снова к обязанностям любви, совершенно забытым со времени их возвращения, и редко проходило подряд три вечера, чтоб он не переступал порога супружеской спальни.
Розали вскоре совсем оправилась и стала менее печальной, хотя все еще оставалась какой-то подавленной и словно преследуемой непонятным страхом.
Еще два раза убегала она от Жанны, когда та снова пыталась расспрашивать ее.
Жюльен сделался вдруг также более приветливым, и у молодой женщины вновь зашевелились неясные надежды; к ней вновь вернулось веселое настроение, хотя она и чувствовала по временам какое-то странное недомогание, о котором никому не говорила.
Оттепели еще не было, и в продолжение почти пяти недель небо, днем ясное, как голубой кристалл, а ночью все усеянное звездами, которые можно было принять за иней – до того морозно было все это огромное пространство, – расстилалось над однообразным, твердым, сверкающим покровом снегов.
Фермы, огороженные квадратными двориками, заслоненные громадными деревьями, напудренными инеем, казалось, уснули в белых рубашках. Ни люди, ни животные не выходили наружу, и только трубы хижин свидетельствовали о скрытой жизни тонкими струйками дыма, поднимавшимися прямо ввысь в морозном воздухе.
Равнина, изгороди, вязы у заборов – все, казалось, было мертво, убито холодом. Время от времени слышался треск деревьев, словно их деревянные конечности ломались под корой; иногда отрывалась и падала толстая ветка: это от сильной стужи застывал древесный сок и разрывались волокна.
Жанна с тоской ждала возвращения теплого ветра, приписывая мучившие ее необъяснимые недомогания суровости климата этого времени года.
То она не могла ничего есть, чувствуя отвращение ко всякой пище; то ее пульс начинал безумно биться; то самое легкое кушанье вызывало у нее расстройство пищеварения; вдобавок из-за вечно натянутых нервов она волновалась по любому поводу и жила в постоянном нестерпимом возбуждении.
Однажды вечером термометр упал еще ниже. Жюльен, выходя из-за стола и дрожа (зал никогда не бывал достаточно натоплен из-за экономии дров), пробормотал, потирая руки:
– Хорошо будет сегодня спать вдвоем, не правда ли, кошечка?
Он засмеялся своим прежним добрым, детским смехом, и Жанна бросилась к нему на шею; но именно в этот вечер ей было так не по себе, так нездоровилось, она чувствовала себя такой нервной, что, целуя мужа в губы, чуть слышно попросила его оставить ее спать одну. В нескольких словах она сказала ему о своем недомогании.
– Прошу тебя об этом, милый, уверяю тебя, мне очень нехорошо; завтра мне, наверно, будет лучше.
Он не настаивал:
– Как хочешь, дорогая: если ты больна, то надо поберечься.
И они заговорили о другом.
Она легла рано. Жюльен, против обыкновения, приказал затопить камин в своей комнате. Когда ему сказали, что «разгорелось хорошо», он поцеловал жену в лоб и ушел.
Весь дом, казалось, был во власти холода: стены, пронизанные им, слегка потрескивали, точно от озноба, и Жанна дрожала в своей постели.
Два раза она вставала, чтобы подложить в камин дров и достать все свои платья, юбки, старую одежду, и наваливала все это на постель. Ничто не могло ее согреть: ноги у нее онемели, а по икрам до самых бедер пробегала дрожь, заставлявшая ее беспрестанно ворочаться, волноваться и нервничать до последней степени.