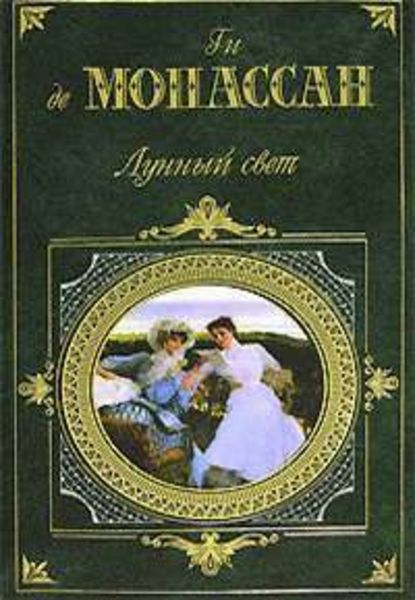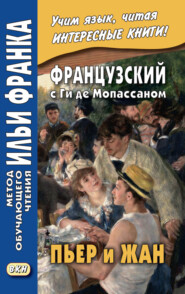По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Отец Амабль
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Аббат Раффен, маленький, худой, подвижной и вечно небритый, дожидался обеда, грея ноги у кухонного очага.
Увидев вошедшего крестьянина, он только повернул в его сторону голову и спросил:
– А, Сезэр, что тебе нужно?
– Мне бы поговорить с вами, господин кюре.
Крестьянин робко переминался на месте, держа в одной руке фуражку, а в другой кнут.
– Ну, говори.
Сезэр взглянул на старую служанку, которая, шаркая ногами, ставила хозяйский прибор на край стола перед окном. Он пробормотал:
– Мне бы вроде как на духу, господин кюре.
Тут аббат Раффен пристально взглянул на крестьянина и, заметив его растерянный вид, сконфуженное лицо, бегающие глаза, приказал:
– Мари, уйди к себе в комнату минут на пять, пока мы тут потолкуем с Сезэром.
Старуха бросила на парня сердитый взгляд и вышла, ворча.
Священник продолжал:
– Ну, теперь выкладывай свое дело.
Парень все еще колебался, разглядывал свои сабо, теребил фуражку, но потом вдруг осмелел:
– Вот какое дело. Я хочу жениться на Селесте Левек.
– Ну и женись, голубчик, кто же тебе мешает?
– Отец не хочет.
– Твой отец?
– Да.
– Что же он говорит, твой отец?
– Он говорит, что у нее ребенок.
– Ну, это не с ней первой случилось со времени нашей праматери Евы.
– Да ребенок-то у нее от Виктора, от Виктора Лекока, работника Антима Луазеля.
– Ах вот как! И отец, значит, не хочет?
– Не хочет.
– Нипочем не хочет?
– Да. Не в обиду сказать, уперся, как осел.
– Ну а что ты ему говоришь, чтобы он согласился?
– Я говорю, что она хорошая девушка, работящая и бережливая.
– А он все-таки не соглашается? Ты, значит, хочешь, чтобы я с ним поговорил?
– Вот, вот!
– Ну а что же мне ему сказать, твоему отцу?
– Да… то самое, что вы говорите на проповеди, чтобы мы деньги давали.
В представлении крестьянина все усилия религии сводились к тому, чтобы наполнять небесные сундуки, заставлять прихожан раскошеливаться, выкачивать деньги из их карманов. Это было нечто вроде огромного торгового дома, где кюре являлись приказчиками, хитрыми, пронырливыми, оборотистыми, и обделывали дела господа бога за счет деревенских жителей.
Он, конечно, знал, что священники оказывают услуги, немалые услуги бедным людям, больным, умирающим, что они напутствуют, утешают, советуют, поддерживают, но все это за деньги, в обмен на беленькие монетки, на славное блестящее серебро, которым оплачиваются таинства и мессы, советы и покровительство, прощение и отпущение грехов, чистилище или рай, в зависимости от доходов и щедрости грешника.
Аббат Раффен, хорошо понимавший своих прихожан и никогда не сердившийся на них, рассмеялся:
– Ну, ладно! Я поговорю с твоим отцом, но ты, голубчик мой, должен ходить на проповедь.
Ульбрек поднял руку:
– Если вы мне это устроите, даю честное слово бедняка, буду ходить.
– Значит, поладили. Когда же ты хочешь, чтобы я сходил к твоему отцу?
– Да чем раньше, тем лучше. Если можно, хоть сегодня.
– Хорошо, я приду через полчаса, как поужинаю.
– Через полчаса?
– Да. До свидания, голубчик.
– Счастливо оставаться, господин аббат, спасибо вам.
– Не за что.
И Сезэр Ульбрек воротился домой, чувствуя, что с сердца его спала большая тяжесть.
Он арендовал маленькую, совсем маленькую ферму, так как они с отцом были небогаты. Одни со служанкой, пятнадцатилетней девочкой, которая варила им похлебку, ходила за птицей, доила коров и сбивала масло, они еле-еле сводили концы с концами, хотя Сезэр был хороший хозяин. Но у них не хватало ни земли, ни скота, и заработать им удавалось только на самое необходимое.
Старик уже не мог работать. Угрюмый, как все глухие, разбитый болезнями, скрюченный, сгорбленный, он бродил по полям, опираясь на палку, и мрачно, недоверчиво оглядывал людей и животных. Иногда он садился на краю канавы и просиживал там в неподвижности целыми часами, смутно думая о том, что заботило его всю жизнь, – о ценах на яйца и на хлеб, о солнце и о дожде, которые будут полезны или вредны посевам. И его старые члены, сведенные ревматизмом, продолжали впитывать в себя сырость почвы, как уже впитывали в течение семидесяти лет испарения низкого домика, крытого сырой соломой.