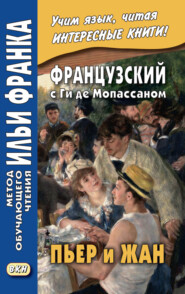По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лунный свет (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Она ответила убежденно:
– Это не глупость, раз она удалась. То, что удается, папа, никогда не бывает глупо.
Он пожал плечами, и они стали спускаться. Задержались еще у привратника, чтобы купить фотографии, и когда добрались до гостиницы, наступало уже время обеда. Хозяйка посоветовала совершить еще небольшую прогулку по пескам, чтобы полюбоваться горою со стороны моря, откуда, по ее словам, открывается самый восхитительный вид.
Несмотря на усталость, все снова отправились в путь и, обогнув укрепления, немного углубились в коварные дюны, зыбкие, хоть и твердые на вид, где нога, ступив на разостланный под нею прекрасный желтый ковер, казавшийся плотным, вдруг глубоко погружалась в обманчивый золотистый ил.
С этой стороны аббатство, внезапно утратив вид морского собора, который так поражает, когда смотришь на него с берега, приобрело, как бы в угрозу океану, воинственный вид феодального замка с высокой зубчатой стеной, прорезанной живописными бойницами и поддерживаемой гигантскими контрфорсами, циклопическая кладка которых вросла в подошву этой причудливой горы. Но г-жу де Бюрн и Андре Мариоля уже ничто не интересовало. Они думали только о себе, оплетенные сетями, которые расставили друг другу, замурованные в той темнице, куда ничего уже не доносится из внешнего мира, где ничего не видишь, кроме одного-единственного существа.
Когда же они очутились за столом перед полными тарелками, при веселом свете ламп, они очнулись и почувствовали, что голодны.
Обед затянулся, а когда он кончился, то за приятной беседой забыли о лунном свете. Никому, впрочем, не хотелось выходить, и никто об этом не заговаривал. Пусть полная луна серебрит поэтическими переливами мелкие волны прилива, уже наступающего на пески с еле уловимым жутким шорохом, пусть она освещает змеящиеся вокруг горы укрепления, пусть среди неповторимой декорации безбрежного залива, блистающего от ползущих по дюнам отблесков, кладет романтические тени на башенки аббатства – больше уже не хотелось смотреть ни на что.
Еще не было десяти часов, когда г-жа Вальсази, одолеваемая сном, предложила ложиться спать. Все без возражений согласились с ней и, обменявшись дружескими пожеланиями спокойной ночи, разошлись по своим комнатам.
Андре Мариоль знал, что не заснет; он зажег две свечи на камине, распахнул окно и стал любоваться ночью.
Все тело его изнемогало под пыткой бесплодных желаний. Он знал, что она здесь, совсем близко, отделенная от него лишь двумя дверями, а приблизиться к ней было так же невозможно, как задержать морской прилив, затоплявший все кругом. Он ощущал в груди потребность кричать, а нервы его были так напряжены от тщетного, неутоленного желания, что он спрашивал себя, что же ему с собою делать, – потому что он больше не в силах выносить одиночество в этот вечер неосуществленного счастья.
И в гостинице, и на единственной извилистой улице городка постепенно затихли все звуки. Мариоль все стоял, облокотясь на подоконник, глядя на серебряный полог прилива, сознавая только, что время течет, и не решался лечь, словно предчувствуя какую-то радость.
Вдруг ему показалось, что кто-то взялся за ручку двери. Он резко повернулся. Дверь медленно отворилась. Вошла женщина; голова ее была прикрыта белым кружевом, а на тело накинута одна из тех свободных домашних одежд, которые кажутся сотканными из шелка, пуха и снега. Она тщательно затворила за собою дверь, потом, словно не замечая его, стоящего в светлом пролете окна и сраженного счастьем, она направилась прямо к камину и задула обе свечи.
II
Они условились встретиться на другой день утром у подъезда гостиницы, чтобы проститься. Андре Мариоль спустился первым и ждал ее появления с щемящим чувством тревоги и блаженства. Что она скажет? Какою будет? Что станется с нею и с ним? В какую полосу жизни – то ли счастливую, то ли гибельную – он ступил? Она может сделать из него все, что захочет, – человека, погруженного в мир грез, подобно курильщикам опиума, или мученика, – как ей вздумается. Он беспокойно шагал возле двух экипажей, которые должны были разъехаться в разные стороны: ему предстояло закончить путешествие через Сен-Мало, чтобы довершить обман, остальные же возвращались в Авранш.
Когда он увидит ее вновь? Сократит ли она свое пребывание у родственников или задержится там? Он страшно боялся ее первого взгляда и первых слов, потому что в минуты краткого ночного объятия не видел ее и они почти ничего не сказали друг другу. Она отдалась без колебаний, но с целомудренной сдержанностью, не наслаждаясь, не упиваясь его ласками; потом ушла своей легкой походкой, прошептав: «До завтра, мой друг».
От этой быстрой, странной встречи у Андре Мариоля осталось еле уловимое чувство разочарования, как у человека, которому не довелось собрать всю жатву любви, казавшуюся ему уже созревшей, и в то же время осталось опьянение победою и, следовательно, надежда, почти уверенность, что вскоре он добьется от нее полного самозабвения.
Он услыхал ее голос и вздрогнул. Она говорила громко, по-видимому, недовольная какой-то прихотью отца, и когда она показалась на верхних ступеньках лестницы, на губах ее лежала сердитая складка.
Мариоль направился к ней; она его увидела и стала улыбаться. Ее взгляд вдруг смягчился и принял ласковое выражение, разлившееся по всему лицу. А взяв ее руку, протянутую порывисто и нежно, он почувствовал, что она подтверждает принесенный ею дар и делает это без принуждения и раскаяния.
– Итак, мы расстаемся? – сказала она.
– Увы, сударыня! Не могу выразить, как мне это тяжело.
Она промолвила:
– Но ведь не надолго.
Г-н де Прадон подходил к ним, поэтому она добавила совсем тихо:
– Скажите, что собираетесь дней на десять в Бретань, но не ездите туда.
Г-жа де Вальсази в большом волнении подбежала к ним.
– Что это папа говорит? Ты собираешься ехать послезавтра? Подождала бы хоть до будущего понедельника.
Г-жа де Бюрн, слегка нахмурившись, возразила:
– Папа нетактичен и не умеет молчать. Море вызывает у меня, как всегда, очень неприятные невралгические явления, и я действительно сказала, что мне надо уехать, чтобы потом не пришлось лечиться целый месяц. Но сейчас не время говорить об этом.
Кучер Мариоля торопил его, чтобы не опоздать к поезду.
Г-жа де Бюрн спросила:
– А вы когда думаете вернуться в Париж?
Он сделал вид, что колеблется.
– Не знаю еще; мне хочется посмотреть Сен-Мало, Брест, Дуарненез, бухту Усопших, мыс Раз, Одиерн, Пенмарк, Морбиган – словом, объездить весь знаменитый бретонский мыс. На это потребуется…
Помолчав, будто высчитывает, он решил преувеличить:
– Дней пятнадцать-двадцать.
– Это долго, – возразила она, смеясь. – А я, если буду чувствовать себя так плохо, как в эту ночь, через два дня вернусь домой.
Волнение стеснило ему грудь, ему хотелось крикнуть: «Благодарю!», но он ограничился тем, что поцеловал – поцеловал как любовник – руку, которую она протянула ему на прощание.
Обменявшись бесчисленными приветствиями, благодарностями и уверениями во взаимном расположении с супругами Вальсази и г-ном де Прадоном, которого он несколько успокоил, объявив о своем путешествии, Мариоль сел в экипаж и уехал, оглядываясь в сторону г-жи де Бюрн.
Он вернулся в Париж, нигде не задерживаясь и ничего не замечая в пути. Всю ночь, прикорнув в вагоне, полузакрыв глаза, скрестив руки, с душой, поглощенной одним-единственным воспоминанием, он думал о своей воплотившейся мечте. Едва он оказался дома, едва кончилось его путешествие и он снова погрузился в тишину своей библиотеки, где обычно проводил время, где занимался, где писал, где почти всегда чувствовал себя спокойно и уютно в обществе своих любимых книг, рояля и скрипки, – в душе его началась та нескончаемая пытка нетерпения, которая, как лихорадка, терзает ненасытные сердца. Пораженный тем, что он не может ни на чем сосредоточиться, ничем заняться, что ничто не в силах не только поглотить его мысли, но даже успокоить его тело, – ни привычные занятия, которыми он разнообразил жизнь, ни чтение, ни музыка, – он задумался: что же сделать, чтобы умерить этот новый недуг? Его охватила потребность – физическая необъяснимая потребность – уйти из дому, ходить, двигаться; охватил приступ беспокойства, которое от мысли передалось телу и было не чем иным, как инстинктивным и неукротимым желанием искать и вновь обрести кого-то.
Он надел пальто, взял шляпу, отворил дверь и, уже спускаясь по лестнице, спросил себя: «Куда я?» И у него возникла мысль, над которой он еще не задумывался. Ему нужно было найти приют для их свиданий – укромную, простую и красивую квартиру.
Он искал, ходил, обегал улицы за улицами, авеню и бульвары, тревожно приглядывался к угодливо улыбавшимся привратницам, хозяйкам с подозрительными лицами, к квартирам с сомнительной мебелью и вечером вернулся домой в унынии. На другое утро, с девяти часов, он снова принялся за поиски и наконец, уже в сумерках, отыскал в одном из переулков Отейля[6 - Отейль – в старину один из пригородов Парижа, в эпоху действия романа – XVI округ французской столицы.], в глубине сада с тремя выходами, уединенный флигелек, который местный обойщик обещал ему обставить в два дня. Он выбрал обивку, заказал мебель – совсем простую, из морёной сосны, – и очень мягкие ковры. Сад находился под присмотром булочника, жившего поблизости. С женой его он сговорился насчет уборки квартиры. Соседний садовод взялся сделать клумбы.
Все эти хлопоты задержали его до восьми часов, а когда он пришел домой, изнемогая от усталости, его сердце забилось при виде телеграммы, лежавшей на письменном столе. Он вскрыл ее.
«Буду дома завтра вечером, – писала г-жа де Бюрн. – Ждите указаний. Миш.».
Он еще не писал ей, боясь, что письмо пропадет, раз она должна уехать из Авранша. Сразу же после обеда он сел за письменный стол, чтобы выразить ей все, что он чувствовал. Он писал долго и с трудом, ибо все выражения, фразы и самые мысли казались ему слабыми, несовершенными, нелепыми для передачи его нежной и страстной признательности.
В письме, которое он получил на другое утро, она подтверждала, что вернется в тот же вечер, и просила его не показываться никому несколько дней, чтобы все верили в его отсутствие. Кроме того, она просила его прийти на следующий день, часов в десять утра, в Тюильрийский сад, на террасу, возвышающуюся над Сеной.
Он явился туда часом раньше и бродил по обширному саду, где мелькали лишь ранние прохожие, чиновники, спешившие в министерства на левом берегу, служащие, труженики разных профессий. Он сознательно отдавался удовольствию наблюдать за этими торопливо бегущими людьми, которых забота о хлебе насущном гнала к их притупляющим занятиям, и, сравнивая себя с ними в этот час, когда он ждал свою возлюбленную, одну из владычиц мира, он чувствовал себя таким баловнем судьбы, существом столь счастливым, столь далеким от жизненной борьбы, что ему захотелось возблагодарить голубые небеса, ибо провидение было для него лишь сменою лазури и ненастья, в зависимости от Случая, коварного властелина людей и дней.
За несколько минут до десяти часов он поднялся на террасу и стал всматриваться.
«Опаздывает», – подумал он. Не успел он расслышать десять ударов, пробивших на одной из соседних башен, как ему показалось, что он узнает ее издали, что это она идет по саду торопливым шагом, как продавщица, спешащая в свой магазин. Он сомневался: она ли это? Он узнавал ее походку, но его удивляла перемена в ее внешности, такой скромной в простом темном платье. А она в самом деле направлялась к лестнице, ведущей на террасу, и шла уверенно, словно бывала тут уже много раз.
«Вероятно, – подумал он, – ей нравится это место и она иногда гуляет здесь». Он наблюдал, как она подобрала платье, поднимаясь на первую каменную ступеньку, как легко прошла остальные, а когда он устремился к ней, чтобы ускорить встречу, она с ласковой улыбкой, таившей беспокойство, сказала ему:
– Вы очень неосторожны. Не надо ждать так, на самом виду. Я увидела вас почти что с улицы Риволи. Пойдемте посидим на скамейке, вон там, за оранжереей. Там и ждите меня в другой раз.