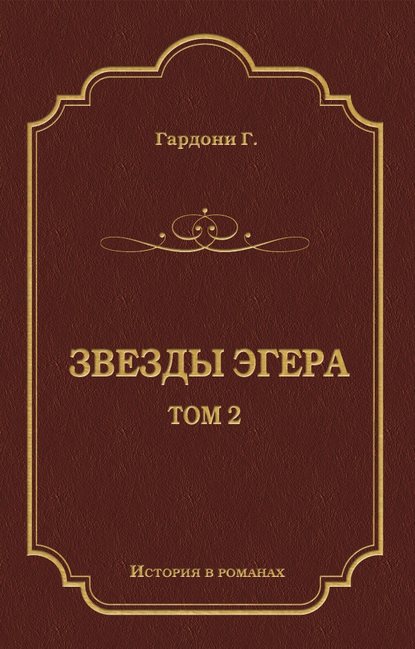По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Звезды Эгера. Т. 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Оглянулся Петё налево, направо и, подкрутив усы, заговорил:
– Наш капитан Мекчеи верит в Добо и Борнемиссу. Добо и Борнемисса верят в нас и в стены твердыни. Теперь я скажу, во что я верю.
– Слушаем, слушаем!
– Нынче в числе прочих крепостей пали две могучие твердыни: Темешвар и Солнок…
– И Веспрем.
– В Веспреме не было людей. А почему пали эти две могучие крепости? Пройдут годы, и люди, наверно, скажут: пали они потому, что турок был сильнее. А это не так. Они пали потому, что Темешвар защищали испанские наемники и Солнок тоже защищали наемники – испанцы, чехи и немцы. Теперь позвольте сказать, во что верю я. Я верю в то, что Эгер не будет оборонять ни испанское, ни немецкое, ни чешское войско. Не считая пяти пушкарей, у нас все – венгерцы, да еще большинство – эгерчане. Это львы, защищающие свое логово. Я верю в венгерцев!
Лица у всех раскраснелись, все подняли кубки. Петё мог бы уже и закончить свою речь, но он продолжал с жаром народного трибуна:
– А венгерец как кремень: чем больше его бьют, тем больше искр высекают. Так неужто же две тысячи молодцов, родившихся от венгерских матерей и отцов, выросших на коне да венгерском зерне, пивших густую бычью кровь[16 - Сорт эгерского вина.] из подвалов эгерских святых отцов, – неужто они не справятся с рванью-дрянью, водохлебами, чубастыми прощелыгами?
Слова его заглушили крики, бряцанье сабель и смех, но Гашпар Петё еще разок подкрутил усы, покосившись куда-то в сторону, и закончил так:
– До сих пор Эгер был просто славным городком, городом хевешских и боршодских венгерцев. Дай бог, чтобы впредь он стал городом венгерской славы! Басурманской кровью напишем мы на стене; «Не тронь венгерца!», чтобы по прошествии веков, когда настанет вечный мир и на руинах крепости будет зеленеть мох, сын будущих столетий, сняв шляпу, гордо сказал: «Здесь сражались наши отцы – да будет благословен их прах!»
Поднялся шум, все бросились целовать оратора. И Петё уже не мог продолжать свою речь. Да ему и не хотелось больше говорить. Он сел и протянул руку лейтенанту боршодцев Тамашу Бойки.
– Тамаш, – сказал он, – там, где мы с тобой будем, туркам не поздоровится!
– И хорошо же ты сказал! – кивнул головой Тамаш. – Я хоть сейчас готов ринуться на целую сотню!
После Петё больше никто не был в силах произнести тост. Просили Гергея, но он, как ученый человек, не привык ораторствовать.
Каждый завязал беседу со своим соседом, и зал наполнился веселым гомоном.
Добо тоже оживился, чокался то с одним, то с другим соседом. Он протянул кубок Гергею, а когда священник пересел побеседовать с Петё, поманил Гергея рукою:
– Сын мой, сядь сюда.
И как только Гергей сел рядом с ним, Добо сказал:
– Я хочу потолковать с тобой о сыновьях Тёрёка. Я им тоже написал, да, как видишь, зря.
– Да, – ответил Гергей, поставив свой кубок, – думаю, что нам не дождаться их. Янчи предпочитает биться с турком в чистом поле. А Фери не поедет так далеко, он не покинет Задунайщину.
– Правда, что Балинт Тёрёк умер?
– Да, умер, бедняга, несколько месяцев назад. Только смерть освободила его от оков.
– На много ли он пережил жену?
– На несколько лет. Жена его умерла, когда мы вернулись из Константинополя. Мы как раз к ее похоронам прибыли в Дебрецен.
– Добрая была женщина, – сказал Добо, задумчиво кивая головой, и потянулся за кубком, будто желая помянуть покойницу.
– Да, таких не часто встретишь, – сказал Гергей, вздохнув, и тоже потянулся за чарой.
Они молча чокнулись. Быть может, оба думали, что добрая женщина видит с небесных высот, как они осушают чару в ее память.
– А Зрини? – спросил Добо. – Я написал и ему, чтобы приезжал в Эгер.
– Он приехал бы, да только уже несколько месяцев ходят слухи, будто боснийский паша готовится выступить в поход против него. В феврале я беседовал с дядей Миклошем в Чакторне. Он уже и тогда знал, что на Темешвар, Солнок и Эгер идет большая турецкая рать. Еще попросил, чтобы я написал для него письмо королю.
– Не пойму, куда девался Лукач. Давно пора ему вернуться. – Лицо Добо омрачилось. – Да и лазутчику Варшани тоже пора прибыть с донесением.
Перед дверями заиграли дудки и трубы:
Мишка-франт свалился в воду.
Панни ждет его у брода.
Казалось, будто всем влили новую кровь. По знаку Добо оруженосец впустил музыкантов: трех дударей и двух трубачей. В числе их был и цыган. На голове его красовался большой ржавый шлем с тремя петушиными перьями. У пояса на тесемочке висела сабля без ножен. К босым ногам были привязаны огромные шпоры. Усердно надувая щеки, трубил он на своем кларнете.
Все слушали с удовольствием. Когда песню повторили, кто-то из лейтенантов запел глубоким голосом:
Небо голубое, лес покрыт листвою.
Конь мой белоногий, дай вскочу в седло я.
Вновь пущу оружье в дело боевое,
Чтоб меня все турки поминали воя.
Лейтенант был статный парень с холеными усами. Усы торчали у него в разные стороны двумя стрелами. Даже сзади можно было его узнать.
– А кто этот лейтенант? – спросил Гергей, склонившись к Добо.
– Иов Пакши, младший брат капитана Комаромской крепости.
– Хорошо поет!
– И, должно быть, храбрый малый. Кто любит петь, тот и дерется храбро.
– А тот молодой человек, с огненным взглядом и закрученными усами?
– Пишта Будахази, офицер. Шесть конников привел с собой.
– Видно, что прирожденный воин. А тот подальше, с густой бородой, тянется сейчас за кубком?
– Беренц Бай, офицер. Пять конников привел. Тоже славный малый.
– А этот молодцеватый паренек с шелковым платком на шее, рядом с эгерским горожанином?
– Пишта Фекете, офицер. Шесть конников привел.
– Да, верно, ведь я же беседовал с ним.