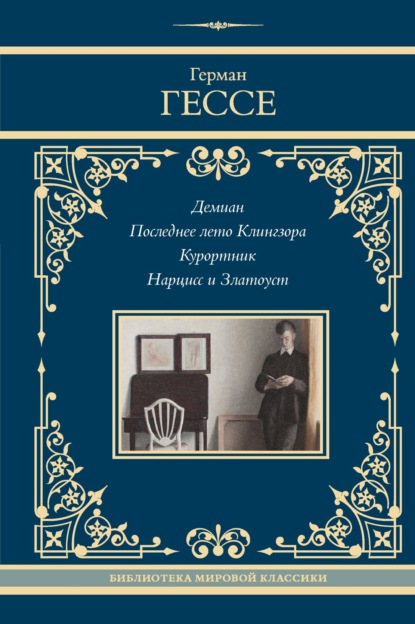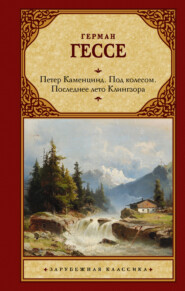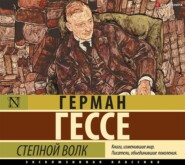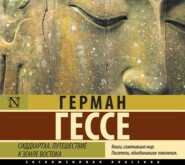По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Демиан. Последнее лето Клингзора. Душа ребенка. Клейн и Вагнер. Странствие. Курортник. Поездка в Нюрнберг. Нарцисс и златоуст
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А во мне эти слова задели загадку всего моего отрочества, которую я ежечасно носил в себе, никогда никому не говоря ни слова о ней. То, что сказал тогда Демиан о Боге и дьяволе, о божественно-официальном и о замалчиваемом дьявольском мире, – это же была в точности моя собственная мысль, мой собственный миф, мысль о двух мирах или о двух половинах мира – светлой и темной. Сознание, что моя проблема – это проблема всех людей, проблема всей жизни и всякого мышления, осенило меня, как священная тень, и меня охватили страх и благоговение, когда я увидел и вдруг почувствовал, как глубоко причастны моя сокровеннейшая жизнь, мои самые личные мысли к вечному потоку великих идей. Сознание это не было радостно, хотя что-то подтверждало и было чем-то приятно. Оно было сурово и грубовато, потому что в нем слышались ответственность, конец детства, начало самостоятельности.
Впервые в жизни раскрывая такую глубокую тайну, я рассказал своему товарищу о не отпускавшей меня с детства мысли о «двух мирах», и он сразу понял, что, стало быть, в глубине души я согласен с ним и признаю его правоту. Но не таков он был, чтобы этим воспользоваться. Он выслушал меня с самым глубоким вниманием, какое когда-либо мне дарил, и посмотрел мне в глаза так, что я должен был отвести их. Ибо в его взгляде я снова увидел эту странную, животную вневременность, этот невообразимый возраст.
– Мы поговорим об этом в другой раз, – сказал он щадяще. – Я вижу, ты думаешь больше, чем можешь передать. Но в таком случае тебе должно быть известно и то, что ты полностью никогда не жил своими мыслями, а это нехорошо. Ценность имеют только те мысли, которыми мы живем. Ты знал, что твой «дозволенный мир» – это лишь половина мира, и попытался спрятать от себя вторую половину, как то делают священники и учителя. Это тебе не удастся! Это не удастся никому, раз уж он начал думать.
Это глубоко задело меня.
– Но есть же, – почти вскричал я, – действительно, в самом деле запрещенные и безобразные вещи, этого же ты не можешь отрицать! И они запретны, и мы должны от них отказаться. Я ведь знаю, что существуют убийство и всевозможные пороки, но разве я должен, только потому, что такое существует на свете, пойти и стать преступником?
– Сегодня мы с этим не управимся, – смягчился Макс. – Конечно, ты не должен убивать, не должен совершать садистских расправ над девушками. Но ты еще не там, где видно, что такое «дозволено» и что такое «запретно». Ты почувствовал лишь какую-то часть правды. Остальное еще последует, можешь быть уверен! Сейчас, например, ты с год уже чувствуешь в себе некое влечение, которое сильнее всех других, и оно считается «запретным». Греки же и многие другие народы, напротив, возвели это влечение в божество и справляли в его честь пышные праздники. «Запрет», значит, не есть нечто вечное, он может меняться. Да и сегодня ведь каждый волен спать с женщиной, как только он побывал с ней у священника и женился на ней. У других народов это иначе и ныне тоже. Поэтому каждый из нас должен определить для себя самого, что дозволено и что запретно – запретно для него. Можно никогда не делать ничего запрещенного и быть при этом большим негодяем. И точно так же наоборот… В сущности, это только вопрос любви к покою! Кто слишком любит покой, чтобы самому думать и самому быть себе судьей, тот подчиняется без разбора любым запретам. Другие сами чувствуют какие-то приказы в себе, для них запретны вещи, которые каждый порядочный человек делает ежедневно, но зато позволительны другие вещи, которые вообще осуждаются. Каждый должен отвечать за себя самого.
Он, кажется, вдруг пожалел, что сказал так много, и оборвал свою речь на полуслове. Уже тогда я в какой-то мере понимал чувством, что он при этом испытывал. Как ни приятно и словно бы невзначай излагал он приходившие ему в голову мысли, он терпеть не мог разговоров, как он однажды выразился, «только для разговора». А во мне он, помимо подлинного интереса, почувствовал слишком много игры, слишком много радости от умной болтовни или что-то подобное – словом, отсутствие совершенной серьезности.
Стоило мне перечесть последние написанные мною слова – «совершенная серьезность», как я вдруг вспомнил другую сцену, самую яркую из всех, что случились у меня с Демианом в те еще полудетские времена.
Приближалась конфирмация, и на последних уроках наших занятий речь шла о причащении. Священник придавал этому важное значение, он не жалел сил, какие-то торжественность и приподнятость явно ощущались в эти часы. Однако как раз на этих нескольких последних уроках мысли мои были прикованы к другому – к фигуре моего друга. С приближением конфирмации, которую нам объяснили как торжественное вступление в церковное братство, я никак не мог отвязаться от мысли, что для меня ценность этих примерно полугодичных религиозных занятий состояла не в том, чему мы здесь учились, а в близости и влиянии Демиана. Не в церковь готов я был теперь вступить, а во что-то совсем другое, в орден мысли и личности, который должен был каким-то образом существовать на земле и представителем или посланцем которого я ощущал своего друга.
Я пытался оттеснить эту мысль, мне всерьез хотелось пройти через празднество конфирмации, несмотря ни на что, с определенным достоинством, а таковое с моей мыслью не очень вязалось. Однако, сколько я ни бился, мысль эта не уходила и постепенно сливалась у меня с мыслью о скором церковном празднестве, я готов был справить его не так, как другие, оно должно было означать для меня прием в мир идей, который открылся мне в Демиане.
В те дни мне опять как-то случилось вступить с ним в дискуссию; это произошло как раз перед уроком священника. Мой друг был сдержан и явно не рад моим речам, не по годам, пожалуй, благоразумным, самонадеянным.
– Мы слишком много говорим, – сказал он с необычной серьезностью. – Умные разговоры ничего не стоят, ровным счетом ничего. Уходить от самого себя грех. Надо уметь целиком забиваться в себя, как черепаха.
Затем мы сразу вошли в класс. Урок начался, я старался внимательно слушать, и Демиан не мешал мне в этом. Через некоторое время я почувствовал с той стороны, где он сидел возле меня, что-то странное, какую-то пустоту и прохладу или что-то подобное, словно его место как-то вдруг опустело. Когда это чувство стало стеснять меня, я обернулся.
Я увидел, что мой друг сидит рядом, прямо и с хорошей осанкой, как обычно. Однако вид у него был совсем не такой, как обычно, и что-то от него исходило, что-то такое овевало его, чего я не знал. Я подумал, что он закрыл глаза, но увидел, что они открыты. Однако они не глядели, не видели, они застыли и были обращены внутрь или куда-то вдаль. Он сидел совершенно неподвижно, даже, казалось, не дышал, рот его был словно вырезан из дерева или камня. Лицо его было бледно, равномерно тускло, как камень, и живее всего в нем были каштановые волосы. Руки его лежали перед ним на парте безжизненно и тихо, как неодушевленные предметы, как камни или плоды, бледные и неподвижные, но не вялые, а как твердые, прочные оболочки какой-то скрытой сильной жизни.
От этого зрелища я содрогнулся. «Он мертв!» – подумал я и чуть не сказал вслух. Но я знал, что он не мертв. Я не мог оторвать взгляда от его лица, от этой бледной, каменной маски, и я чувствовал: это и есть Демиан! Тот, каким он бывал обычно, когда ходил со мной и говорил, это был только наполовину Демиан, это был кто-то, кто временно играл некую роль, приспосабливался, из любезности подыгрывал. А у истинного Демиана вид был вот какой, такой, как у этого, такой же каменный, древний, животноподобный, камнеподобный, прекрасный и холодный, мертвый и втайне полный невероятной жизни. А вокруг него эта тихая пустота, этот эфир, это звездное пространство, эта одинокая смерть!
Сейчас он совсем ушел в себя, чувствовал я, трепеща. Никогда я не был так одинок. Я не был причастен к нему, он был недостижим для меня, он был дальше от меня, чем если бы находился на самом далеком на свете острове.
Я не понимал, как это никто, кроме меня, не видит этого! Все должны были смотреть сюда, все должны были широко открыть глаза. Но никто не обращал на него внимания. Он сидел неподвижно, словно статуя, словно, подумалось мне, истукан, ему на лоб села муха, медленно поползла по носу и губам – он и не вздрогнул.
Где, где был он сейчас? О чем думал, что чувствовал? Был он где-то на небе, где-то в аду?
Мне нельзя было спросить его об этом. Когда я в конце урока увидел, что он снова жив и дышит, когда его взгляд встретился с моим, он, Демиан, был таким же, как прежде. Откуда он возвратился? Где был? Он казался усталым. В лице его опять появился румянец, руки его снова зашевелились, но каштановые его волосы сейчас не блестели и как бы увяли.
В последующие дни я не раз проделывал у себя в спальне некое новое упражнение: я садился очень прямо на стул, приказывал своим глазам застыть, пребывал в полной неподвижности и ждал, долго ли я это выдержу и что при этом почувствую. Но я только уставал, и у меня начинался страшный зуд в веках.
Вскоре после этого прошла конфирмация, от которой никаких важных воспоминаний у меня не осталось.
Все стало теперь другим. Детство вокруг меня разваливалось. Родители смотрели на меня с каким-то смущением. Сестры стали мне совсем чужими. Отрезвление обесценило и обесцветило для меня привычные чувства и радости, сад не благоухал, лес не манил, мир вокруг меня походил на распродажу старых вещей, он был пресен и неинтересен, книги были бумагой, музыка шумом. Так с осеннего дерева спадает листва, оно этого не чувствует, его сечет дождь, жжет солнце или мороз, а в нем жизнь медленно уплотняется, уходит вглубь. Оно не умирает. Оно ждет.
Было решено, что после каникул я перейду в другую школу, впервые вдали от дома. Порой мать приближалась ко мне с особой нежностью, заранее прощаясь, стараясь заронить в мое сердце любовь, тоску по дому и память. Демиан уехал. Я был один.
4. Беатриче
Так и не увидевшись со своим другом, я в конце каникул уехал в Шт. Мои родители, вдвоем, отправились вместе со мной и со всяческой заботливостью препоручили меня опеке пансиона для мальчиков у одного гимназического учителя. Они бы остолбенели от ужаса, если бы знали, в какие обстоятельства втолкнули меня.
Все еще стоял вопрос, выйдет ли из меня со временем хороший сын и полезный гражданин или моя природа устремится к другим путям. Последняя моя попытка быть счастливым под сенью отчего дома и духа длилась долго, временами почти удавалась и все-таки в конце концов полностью провалилась.
Странная пустота и одинокость, которые я впервые почувствовал во время каникул после своей конфирмации (как я еще познакомился с ними позднее, с этой пустотой, с этим разреженным воздухом!), проходили не так быстро. Прощание с родиной далось мне удивительно легко, я даже стыдился, что мало грущу, сестры плакали без причины, я так не умел. Я удивлялся самому себе. Всегда я был ребенком сердечным и, по сути, довольно добрым. Теперь я совершенно изменился. Я проявлял полное равнодушие к внешнему миру и целыми днями был занят тем, что вслушивался в себя и прислушивался к потокам, к запретным и темным потокам, которые подспудно шумели во мне. Я стремительно вырос за последние полгода и взирал на мир долговязым, худым и нескладным подростком. Ничего ребячески милого во мне не осталось, я чувствовал, что таким любить меня невозможно, и сам тоже отнюдь не любил себя. О Максе Демиане я часто сильно тосковал, но нередко я и ненавидел его, виня за оскудение моей жизни, которую воспринимал как свалившуюся на меня гнусную болезнь.
В нашем ученическом пансионе меня поначалу не любили и не уважали, сперва надо мной подтрунивали, а потом стали меня избегать, видя во мне нелюдима, неприятного чудака. Я нравился себе в этой роли, я даже пересаливал в ней, ожесточаясь в своем одиночестве, которое внешне неизменно походило на мужественное презрение к миру, хотя втайне я страдал от изнурительных приступов уныния и отчаяния. В школе я должен был пробавляться знаниями, накопленными еще дома, этот класс несколько отставал от моего прежнего, и я привыкал смотреть на своих ровесников как на детей.
Так все шло год и дольше, первые поездки домой на каникулы тоже не привносили ничего нового; я с радостью уезжал обратно.
Это было в начале ноября. Я завел привычку совершать при любой погоде мыслительные прогулки, во время которых часто испытывал род блаженства, блаженство, полное грусти, презрения к миру и презрения к себе. Так бродил я однажды вечером во влажном, туманном сумраке по окрестностям города, широкая аллея публичного парка была совершенно пустынна и приглашала меня, дорога была засыпана опавшими листьями, которые я ворошил ногами с каким-то мрачным сладострастием, пахло влажным и горьким, дальние деревья выступали из тумана громадными, мутными тенями.
В конце аллеи я нерешительно остановился, глядя на черную листву и жадно дыша влажным запахом обветшания и умирания, на который что-то во мне приветственно отзывалось. О, как нехороша была на вкус жизнь!
По боковой дорожке приближался кто-то в развевающейся крылатке, я хотел пойти дальше, но он окликнул меня:
– Эй, Синклер!
Он подошел, это был Альфонс Бек, староста нашего пансиона. Я всегда рад был его видеть и ничего против него не имел, кроме того, что он держался со мной, как со всеми младшими, иронически-покровительственно. Он был силачом, о нем ходило много слухов среди гимназистов, говорили, что хозяин нашего пансиона его побаивается.
– Что ты здесь делаешь?! – воскликнул он приветливо, таким тоном, какой бывает у старших, когда они порой снисходят до кого-то из нас. – Ну, держу пари, ты сочиняешь стихи?
– И не думал, – резко ответил я.
Он засмеялся, пошел рядом со мной и стал болтать, от чего я уже отвык.
– Не бойся, Синклер, что я этого не пойму. Тут что-то такое есть, когда вот так вечером бродишь в тумане, с осенними мыслями, хочется и впрямь сочинять стихи, я знаю. Об умирающей природе, конечно, и об ушедшей юности, которая сходна с ней. Смотри Генриха Гейне.
– Я не так сентиментален, – сказал я, обороняясь.
– Да ладно! Но в такую погоду, по-моему, человеку не вредно поискать тихое местечко, где можно получить стакан вина или что-нибудь подобное. Пойдем? Я сейчас как раз совсем один… Или тебе неохота? Мне не хотелось бы совращать тебя, если тебе надо быть примерным мальчиком.
Вскоре мы сидели в каком-то захудалом кабачке, пили сомнительное вино и чокались толстыми стаканами. Сначала мне это мало нравилось, но все же это было что-то новое. Вскоре, однако, я, с непривычки к вину, стал очень разговорчив. Во мне словно бы распахнулось какое-то окно, и мир словно бы озарил меня своим светом – как давно, как ужасно давно не изливал я душу! Я ударился в фантастические рассуждения и в ходе их щегольнул историей о Каине и Авеле!
Бек слушал меня с удовольствием – наконец нашелся кто-то, кому я что-то мог дать! Он хлопал меня по плечу, называл молодцом, и мое сердце наполнилось блаженством оттого, что я выплеснул наболевшее, дал выход потребности высказаться, снискал признание, что-то значил для старшего. Когда он назвал меня гениальным нахалом, эти слова пролились мне в душу как сладкое, крепкое вино. Мир загорелся новыми красками, мысли нахлынули на меня из сотни дерзких источников, ум и огонь так и запылали во мне. Мы говорили об учителях и товарищах, и мне казалось, что мы великолепно понимаем друг друга. Мы говорили о греках и язычестве, и Бек всячески подбивал меня на признания о любовных приключениях. Такой разговор я не мог поддержать. Ничего я еще не изведал, рассказывать было не о чем. А то, что я в себе чувствовал, конструировал, о чем фантазировал, это хоть и жгло меня, но этого и вино не расслабило, не сделало поддающимся передаче. О девушках Бек знал куда больше, и я пылал, слушая эти сказки. Узнал я тогда невероятные вещи, совершенно немыслимое становилось чистейшей правдой, оказывалось само собой разумеющимся. В свои восемнадцать, может быть, лет Альфонс Бек уже приобрел кое-какой опыт. Среди прочего ему было известно, что девушки только и знают, что жеманятся и ждут галантностей, и это недурно, но нужно не это. Надеяться на успех можно скорее у женщин. Женщины гораздо умнее. Например, госпожа Ягельт, хозяйка лавки, где продаются тетради и карандаши, с ней можно договориться, и не перечесть всего, что случалось у нее за прилавком.
Я сидел завороженный и оглушенный. Полюбить госпожу Ягельт я, правда, вряд ли смог бы, но все-таки это было нечто неслыханное. Были, оказывается, по крайней мере для взрослых, источники, которые мне и не снились. Какая-то фальшь, правда, тут слышалась, все было мельче и обыденнее, чем, на мой взгляд, пристало любви, но все-таки это была действительность, это была жизнь, это было приключение, рядом со мной сидел кто-то, кто испытал это, кому это казалось само собой разумеющимся.
Наши разговоры немного опустились, что-то утратили. И я уже не был гениальным бесенком, а был теперь всего только мальчиком, который слушал мужчину. Но даже и так – по сравнению с тем, что много месяцев составляло мою жизнь, – это было восхитительно, это был рай. Кроме того, все это было, как я постепенно почувствовал, запретно, очень запретно, от сидения в кабачке до того, о чем мы говорили. Я, во всяком случае, ощущал в этом вкус мысли, вкус революции.
Ту ночь я помню очень отчетливо. Когда мы оба, среди мокрой, прохладной ночи, шли домой мимо тускло горевших газовых фонарей, я впервые был пьян. Это не было славно, это было крайне мучительно, а все же и в этом что-то было, какое-то очарование, какая-то сладость, это был мятеж, это была оргия, жизнь, мысль. Бек храбро опекал меня, хотя и ругал на чем свет стоит за полное неумение пить, и доставил чуть ли не на себе домой, где ему удалось пролезть вместе со мной в переднюю через оказавшееся там открытым окно.
Но с отрезвлением, когда я проснулся от боли после очень короткого мертвого сна, меня охватила безумная тоска. Я сидел в постели, на мне еще была дневная рубашка, моя одежда и башмаки валялись на полу, от них пахло табаком и рвотой, и среди головной боли, тошноты и отчаянной жажды у меня в душе возникла картина, которой я давно не видел воочию. Я увидел родину и отчий дом, отца и мать, сестер и сад, я увидел свою тихую родную спальню, увидел школу и рыночную площадь, увидел Демиана и уроки священника, и все это было какое-то светлое, сияющее, чудесное, божественное и чистое, и все, все это – понимал я – еще вчера, еще несколько часов назад принадлежало мне, ждало меня, а сейчас, вот только сейчас, было загублено и поругано, перестало принадлежать мне, выбросило меня, взглянуло на меня с отвращением! Все милое и дорогое, что я, вплоть до самых далеких, золотых садов детства, получил от родителей, каждый поцелуй матери, каждое Рождество, каждое чистое, светлое воскресное утро дома, каждый цветок в саду – все это было погублено, все это я растоптал! Если бы сейчас явились стражники, если бы они связали меня и повели как изверга рода человеческого и святотатца на эшафот, я с этим согласился бы, пошел бы с радостью, нашел бы правильным и справедливым.
Вот, значит, каков я был внутренне! Я, который кичился и презирал мир! Я, который в душе был горд и размышлял вместе с Демианом! Вот каков я был, изверг, похабник, пьяный, грязный, мерзкий подлец, грубое животное, обуянное гадким влечением! Вот каков я был, я, пришедший из тех садов, где все сияло, все дышало чистотой, прелестью, нежностью, я, любивший музыку Баха и прекрасные стихи! С отвращением и возмущением я все еще слышал свой собственный смех, пьяный, несдержанный, гогочуще-пошлый смех. Это был я.
Но при всем при том испытывать эти муки было чуть ли не наслаждением. Так долго влачился я в слепоте и тупости, так долго молчало и прозябало в нищете мое сердце, что и эти самообвинения, этот ужас, все это омерзение были отрадны душе. Тут все-таки присутствовало чувство, пылал огонь, содрогалось сердце! Со смятением угадывал я среди горя что-то похожее на освобождение и весну.
Между тем внешне я прямо-таки катился вниз. Вскоре хмель уже не был в новинку. В нашей школе много бражничали и безобразничали, я был одним из самых молодых участников этих развлечений и вскоре превратился из малыша, которого терпят, в зачинщика и заправилу, в знаменитого и бесшабашного завсегдатая кабаков. Я опять целиком принадлежал темному миру, дьяволу и слыл в этом мире замечательным парнем.
А на сердце у меня кошки скребли. Я жил в саморазрушительном беспутстве и, считаясь у товарищей вожаком и сорвиголовой, ухарем и озорником, чувствовал глубоко в себе трепет робкой, полной страха души. Помню, как у меня навернулись слезы, когда однажды воскресным утром я, выйдя из кабака, увидел на улице играющих детей, светлых, веселых, свежепричесанных и по-воскресному принаряженных. И, потешая, а то и пугая своих друзей неслыханно циничными замечаниями за залитыми пивом грязными столиками замызганных кабаков, я втайне благоговел перед всем, над чем глумился, и про себя плакал, как бы стоя на коленях перед своей душой, перед своим прошлым, перед матерью, перед отцом.
Впервые в жизни раскрывая такую глубокую тайну, я рассказал своему товарищу о не отпускавшей меня с детства мысли о «двух мирах», и он сразу понял, что, стало быть, в глубине души я согласен с ним и признаю его правоту. Но не таков он был, чтобы этим воспользоваться. Он выслушал меня с самым глубоким вниманием, какое когда-либо мне дарил, и посмотрел мне в глаза так, что я должен был отвести их. Ибо в его взгляде я снова увидел эту странную, животную вневременность, этот невообразимый возраст.
– Мы поговорим об этом в другой раз, – сказал он щадяще. – Я вижу, ты думаешь больше, чем можешь передать. Но в таком случае тебе должно быть известно и то, что ты полностью никогда не жил своими мыслями, а это нехорошо. Ценность имеют только те мысли, которыми мы живем. Ты знал, что твой «дозволенный мир» – это лишь половина мира, и попытался спрятать от себя вторую половину, как то делают священники и учителя. Это тебе не удастся! Это не удастся никому, раз уж он начал думать.
Это глубоко задело меня.
– Но есть же, – почти вскричал я, – действительно, в самом деле запрещенные и безобразные вещи, этого же ты не можешь отрицать! И они запретны, и мы должны от них отказаться. Я ведь знаю, что существуют убийство и всевозможные пороки, но разве я должен, только потому, что такое существует на свете, пойти и стать преступником?
– Сегодня мы с этим не управимся, – смягчился Макс. – Конечно, ты не должен убивать, не должен совершать садистских расправ над девушками. Но ты еще не там, где видно, что такое «дозволено» и что такое «запретно». Ты почувствовал лишь какую-то часть правды. Остальное еще последует, можешь быть уверен! Сейчас, например, ты с год уже чувствуешь в себе некое влечение, которое сильнее всех других, и оно считается «запретным». Греки же и многие другие народы, напротив, возвели это влечение в божество и справляли в его честь пышные праздники. «Запрет», значит, не есть нечто вечное, он может меняться. Да и сегодня ведь каждый волен спать с женщиной, как только он побывал с ней у священника и женился на ней. У других народов это иначе и ныне тоже. Поэтому каждый из нас должен определить для себя самого, что дозволено и что запретно – запретно для него. Можно никогда не делать ничего запрещенного и быть при этом большим негодяем. И точно так же наоборот… В сущности, это только вопрос любви к покою! Кто слишком любит покой, чтобы самому думать и самому быть себе судьей, тот подчиняется без разбора любым запретам. Другие сами чувствуют какие-то приказы в себе, для них запретны вещи, которые каждый порядочный человек делает ежедневно, но зато позволительны другие вещи, которые вообще осуждаются. Каждый должен отвечать за себя самого.
Он, кажется, вдруг пожалел, что сказал так много, и оборвал свою речь на полуслове. Уже тогда я в какой-то мере понимал чувством, что он при этом испытывал. Как ни приятно и словно бы невзначай излагал он приходившие ему в голову мысли, он терпеть не мог разговоров, как он однажды выразился, «только для разговора». А во мне он, помимо подлинного интереса, почувствовал слишком много игры, слишком много радости от умной болтовни или что-то подобное – словом, отсутствие совершенной серьезности.
Стоило мне перечесть последние написанные мною слова – «совершенная серьезность», как я вдруг вспомнил другую сцену, самую яркую из всех, что случились у меня с Демианом в те еще полудетские времена.
Приближалась конфирмация, и на последних уроках наших занятий речь шла о причащении. Священник придавал этому важное значение, он не жалел сил, какие-то торжественность и приподнятость явно ощущались в эти часы. Однако как раз на этих нескольких последних уроках мысли мои были прикованы к другому – к фигуре моего друга. С приближением конфирмации, которую нам объяснили как торжественное вступление в церковное братство, я никак не мог отвязаться от мысли, что для меня ценность этих примерно полугодичных религиозных занятий состояла не в том, чему мы здесь учились, а в близости и влиянии Демиана. Не в церковь готов я был теперь вступить, а во что-то совсем другое, в орден мысли и личности, который должен был каким-то образом существовать на земле и представителем или посланцем которого я ощущал своего друга.
Я пытался оттеснить эту мысль, мне всерьез хотелось пройти через празднество конфирмации, несмотря ни на что, с определенным достоинством, а таковое с моей мыслью не очень вязалось. Однако, сколько я ни бился, мысль эта не уходила и постепенно сливалась у меня с мыслью о скором церковном празднестве, я готов был справить его не так, как другие, оно должно было означать для меня прием в мир идей, который открылся мне в Демиане.
В те дни мне опять как-то случилось вступить с ним в дискуссию; это произошло как раз перед уроком священника. Мой друг был сдержан и явно не рад моим речам, не по годам, пожалуй, благоразумным, самонадеянным.
– Мы слишком много говорим, – сказал он с необычной серьезностью. – Умные разговоры ничего не стоят, ровным счетом ничего. Уходить от самого себя грех. Надо уметь целиком забиваться в себя, как черепаха.
Затем мы сразу вошли в класс. Урок начался, я старался внимательно слушать, и Демиан не мешал мне в этом. Через некоторое время я почувствовал с той стороны, где он сидел возле меня, что-то странное, какую-то пустоту и прохладу или что-то подобное, словно его место как-то вдруг опустело. Когда это чувство стало стеснять меня, я обернулся.
Я увидел, что мой друг сидит рядом, прямо и с хорошей осанкой, как обычно. Однако вид у него был совсем не такой, как обычно, и что-то от него исходило, что-то такое овевало его, чего я не знал. Я подумал, что он закрыл глаза, но увидел, что они открыты. Однако они не глядели, не видели, они застыли и были обращены внутрь или куда-то вдаль. Он сидел совершенно неподвижно, даже, казалось, не дышал, рот его был словно вырезан из дерева или камня. Лицо его было бледно, равномерно тускло, как камень, и живее всего в нем были каштановые волосы. Руки его лежали перед ним на парте безжизненно и тихо, как неодушевленные предметы, как камни или плоды, бледные и неподвижные, но не вялые, а как твердые, прочные оболочки какой-то скрытой сильной жизни.
От этого зрелища я содрогнулся. «Он мертв!» – подумал я и чуть не сказал вслух. Но я знал, что он не мертв. Я не мог оторвать взгляда от его лица, от этой бледной, каменной маски, и я чувствовал: это и есть Демиан! Тот, каким он бывал обычно, когда ходил со мной и говорил, это был только наполовину Демиан, это был кто-то, кто временно играл некую роль, приспосабливался, из любезности подыгрывал. А у истинного Демиана вид был вот какой, такой, как у этого, такой же каменный, древний, животноподобный, камнеподобный, прекрасный и холодный, мертвый и втайне полный невероятной жизни. А вокруг него эта тихая пустота, этот эфир, это звездное пространство, эта одинокая смерть!
Сейчас он совсем ушел в себя, чувствовал я, трепеща. Никогда я не был так одинок. Я не был причастен к нему, он был недостижим для меня, он был дальше от меня, чем если бы находился на самом далеком на свете острове.
Я не понимал, как это никто, кроме меня, не видит этого! Все должны были смотреть сюда, все должны были широко открыть глаза. Но никто не обращал на него внимания. Он сидел неподвижно, словно статуя, словно, подумалось мне, истукан, ему на лоб села муха, медленно поползла по носу и губам – он и не вздрогнул.
Где, где был он сейчас? О чем думал, что чувствовал? Был он где-то на небе, где-то в аду?
Мне нельзя было спросить его об этом. Когда я в конце урока увидел, что он снова жив и дышит, когда его взгляд встретился с моим, он, Демиан, был таким же, как прежде. Откуда он возвратился? Где был? Он казался усталым. В лице его опять появился румянец, руки его снова зашевелились, но каштановые его волосы сейчас не блестели и как бы увяли.
В последующие дни я не раз проделывал у себя в спальне некое новое упражнение: я садился очень прямо на стул, приказывал своим глазам застыть, пребывал в полной неподвижности и ждал, долго ли я это выдержу и что при этом почувствую. Но я только уставал, и у меня начинался страшный зуд в веках.
Вскоре после этого прошла конфирмация, от которой никаких важных воспоминаний у меня не осталось.
Все стало теперь другим. Детство вокруг меня разваливалось. Родители смотрели на меня с каким-то смущением. Сестры стали мне совсем чужими. Отрезвление обесценило и обесцветило для меня привычные чувства и радости, сад не благоухал, лес не манил, мир вокруг меня походил на распродажу старых вещей, он был пресен и неинтересен, книги были бумагой, музыка шумом. Так с осеннего дерева спадает листва, оно этого не чувствует, его сечет дождь, жжет солнце или мороз, а в нем жизнь медленно уплотняется, уходит вглубь. Оно не умирает. Оно ждет.
Было решено, что после каникул я перейду в другую школу, впервые вдали от дома. Порой мать приближалась ко мне с особой нежностью, заранее прощаясь, стараясь заронить в мое сердце любовь, тоску по дому и память. Демиан уехал. Я был один.
4. Беатриче
Так и не увидевшись со своим другом, я в конце каникул уехал в Шт. Мои родители, вдвоем, отправились вместе со мной и со всяческой заботливостью препоручили меня опеке пансиона для мальчиков у одного гимназического учителя. Они бы остолбенели от ужаса, если бы знали, в какие обстоятельства втолкнули меня.
Все еще стоял вопрос, выйдет ли из меня со временем хороший сын и полезный гражданин или моя природа устремится к другим путям. Последняя моя попытка быть счастливым под сенью отчего дома и духа длилась долго, временами почти удавалась и все-таки в конце концов полностью провалилась.
Странная пустота и одинокость, которые я впервые почувствовал во время каникул после своей конфирмации (как я еще познакомился с ними позднее, с этой пустотой, с этим разреженным воздухом!), проходили не так быстро. Прощание с родиной далось мне удивительно легко, я даже стыдился, что мало грущу, сестры плакали без причины, я так не умел. Я удивлялся самому себе. Всегда я был ребенком сердечным и, по сути, довольно добрым. Теперь я совершенно изменился. Я проявлял полное равнодушие к внешнему миру и целыми днями был занят тем, что вслушивался в себя и прислушивался к потокам, к запретным и темным потокам, которые подспудно шумели во мне. Я стремительно вырос за последние полгода и взирал на мир долговязым, худым и нескладным подростком. Ничего ребячески милого во мне не осталось, я чувствовал, что таким любить меня невозможно, и сам тоже отнюдь не любил себя. О Максе Демиане я часто сильно тосковал, но нередко я и ненавидел его, виня за оскудение моей жизни, которую воспринимал как свалившуюся на меня гнусную болезнь.
В нашем ученическом пансионе меня поначалу не любили и не уважали, сперва надо мной подтрунивали, а потом стали меня избегать, видя во мне нелюдима, неприятного чудака. Я нравился себе в этой роли, я даже пересаливал в ней, ожесточаясь в своем одиночестве, которое внешне неизменно походило на мужественное презрение к миру, хотя втайне я страдал от изнурительных приступов уныния и отчаяния. В школе я должен был пробавляться знаниями, накопленными еще дома, этот класс несколько отставал от моего прежнего, и я привыкал смотреть на своих ровесников как на детей.
Так все шло год и дольше, первые поездки домой на каникулы тоже не привносили ничего нового; я с радостью уезжал обратно.
Это было в начале ноября. Я завел привычку совершать при любой погоде мыслительные прогулки, во время которых часто испытывал род блаженства, блаженство, полное грусти, презрения к миру и презрения к себе. Так бродил я однажды вечером во влажном, туманном сумраке по окрестностям города, широкая аллея публичного парка была совершенно пустынна и приглашала меня, дорога была засыпана опавшими листьями, которые я ворошил ногами с каким-то мрачным сладострастием, пахло влажным и горьким, дальние деревья выступали из тумана громадными, мутными тенями.
В конце аллеи я нерешительно остановился, глядя на черную листву и жадно дыша влажным запахом обветшания и умирания, на который что-то во мне приветственно отзывалось. О, как нехороша была на вкус жизнь!
По боковой дорожке приближался кто-то в развевающейся крылатке, я хотел пойти дальше, но он окликнул меня:
– Эй, Синклер!
Он подошел, это был Альфонс Бек, староста нашего пансиона. Я всегда рад был его видеть и ничего против него не имел, кроме того, что он держался со мной, как со всеми младшими, иронически-покровительственно. Он был силачом, о нем ходило много слухов среди гимназистов, говорили, что хозяин нашего пансиона его побаивается.
– Что ты здесь делаешь?! – воскликнул он приветливо, таким тоном, какой бывает у старших, когда они порой снисходят до кого-то из нас. – Ну, держу пари, ты сочиняешь стихи?
– И не думал, – резко ответил я.
Он засмеялся, пошел рядом со мной и стал болтать, от чего я уже отвык.
– Не бойся, Синклер, что я этого не пойму. Тут что-то такое есть, когда вот так вечером бродишь в тумане, с осенними мыслями, хочется и впрямь сочинять стихи, я знаю. Об умирающей природе, конечно, и об ушедшей юности, которая сходна с ней. Смотри Генриха Гейне.
– Я не так сентиментален, – сказал я, обороняясь.
– Да ладно! Но в такую погоду, по-моему, человеку не вредно поискать тихое местечко, где можно получить стакан вина или что-нибудь подобное. Пойдем? Я сейчас как раз совсем один… Или тебе неохота? Мне не хотелось бы совращать тебя, если тебе надо быть примерным мальчиком.
Вскоре мы сидели в каком-то захудалом кабачке, пили сомнительное вино и чокались толстыми стаканами. Сначала мне это мало нравилось, но все же это было что-то новое. Вскоре, однако, я, с непривычки к вину, стал очень разговорчив. Во мне словно бы распахнулось какое-то окно, и мир словно бы озарил меня своим светом – как давно, как ужасно давно не изливал я душу! Я ударился в фантастические рассуждения и в ходе их щегольнул историей о Каине и Авеле!
Бек слушал меня с удовольствием – наконец нашелся кто-то, кому я что-то мог дать! Он хлопал меня по плечу, называл молодцом, и мое сердце наполнилось блаженством оттого, что я выплеснул наболевшее, дал выход потребности высказаться, снискал признание, что-то значил для старшего. Когда он назвал меня гениальным нахалом, эти слова пролились мне в душу как сладкое, крепкое вино. Мир загорелся новыми красками, мысли нахлынули на меня из сотни дерзких источников, ум и огонь так и запылали во мне. Мы говорили об учителях и товарищах, и мне казалось, что мы великолепно понимаем друг друга. Мы говорили о греках и язычестве, и Бек всячески подбивал меня на признания о любовных приключениях. Такой разговор я не мог поддержать. Ничего я еще не изведал, рассказывать было не о чем. А то, что я в себе чувствовал, конструировал, о чем фантазировал, это хоть и жгло меня, но этого и вино не расслабило, не сделало поддающимся передаче. О девушках Бек знал куда больше, и я пылал, слушая эти сказки. Узнал я тогда невероятные вещи, совершенно немыслимое становилось чистейшей правдой, оказывалось само собой разумеющимся. В свои восемнадцать, может быть, лет Альфонс Бек уже приобрел кое-какой опыт. Среди прочего ему было известно, что девушки только и знают, что жеманятся и ждут галантностей, и это недурно, но нужно не это. Надеяться на успех можно скорее у женщин. Женщины гораздо умнее. Например, госпожа Ягельт, хозяйка лавки, где продаются тетради и карандаши, с ней можно договориться, и не перечесть всего, что случалось у нее за прилавком.
Я сидел завороженный и оглушенный. Полюбить госпожу Ягельт я, правда, вряд ли смог бы, но все-таки это было нечто неслыханное. Были, оказывается, по крайней мере для взрослых, источники, которые мне и не снились. Какая-то фальшь, правда, тут слышалась, все было мельче и обыденнее, чем, на мой взгляд, пристало любви, но все-таки это была действительность, это была жизнь, это было приключение, рядом со мной сидел кто-то, кто испытал это, кому это казалось само собой разумеющимся.
Наши разговоры немного опустились, что-то утратили. И я уже не был гениальным бесенком, а был теперь всего только мальчиком, который слушал мужчину. Но даже и так – по сравнению с тем, что много месяцев составляло мою жизнь, – это было восхитительно, это был рай. Кроме того, все это было, как я постепенно почувствовал, запретно, очень запретно, от сидения в кабачке до того, о чем мы говорили. Я, во всяком случае, ощущал в этом вкус мысли, вкус революции.
Ту ночь я помню очень отчетливо. Когда мы оба, среди мокрой, прохладной ночи, шли домой мимо тускло горевших газовых фонарей, я впервые был пьян. Это не было славно, это было крайне мучительно, а все же и в этом что-то было, какое-то очарование, какая-то сладость, это был мятеж, это была оргия, жизнь, мысль. Бек храбро опекал меня, хотя и ругал на чем свет стоит за полное неумение пить, и доставил чуть ли не на себе домой, где ему удалось пролезть вместе со мной в переднюю через оказавшееся там открытым окно.
Но с отрезвлением, когда я проснулся от боли после очень короткого мертвого сна, меня охватила безумная тоска. Я сидел в постели, на мне еще была дневная рубашка, моя одежда и башмаки валялись на полу, от них пахло табаком и рвотой, и среди головной боли, тошноты и отчаянной жажды у меня в душе возникла картина, которой я давно не видел воочию. Я увидел родину и отчий дом, отца и мать, сестер и сад, я увидел свою тихую родную спальню, увидел школу и рыночную площадь, увидел Демиана и уроки священника, и все это было какое-то светлое, сияющее, чудесное, божественное и чистое, и все, все это – понимал я – еще вчера, еще несколько часов назад принадлежало мне, ждало меня, а сейчас, вот только сейчас, было загублено и поругано, перестало принадлежать мне, выбросило меня, взглянуло на меня с отвращением! Все милое и дорогое, что я, вплоть до самых далеких, золотых садов детства, получил от родителей, каждый поцелуй матери, каждое Рождество, каждое чистое, светлое воскресное утро дома, каждый цветок в саду – все это было погублено, все это я растоптал! Если бы сейчас явились стражники, если бы они связали меня и повели как изверга рода человеческого и святотатца на эшафот, я с этим согласился бы, пошел бы с радостью, нашел бы правильным и справедливым.
Вот, значит, каков я был внутренне! Я, который кичился и презирал мир! Я, который в душе был горд и размышлял вместе с Демианом! Вот каков я был, изверг, похабник, пьяный, грязный, мерзкий подлец, грубое животное, обуянное гадким влечением! Вот каков я был, я, пришедший из тех садов, где все сияло, все дышало чистотой, прелестью, нежностью, я, любивший музыку Баха и прекрасные стихи! С отвращением и возмущением я все еще слышал свой собственный смех, пьяный, несдержанный, гогочуще-пошлый смех. Это был я.
Но при всем при том испытывать эти муки было чуть ли не наслаждением. Так долго влачился я в слепоте и тупости, так долго молчало и прозябало в нищете мое сердце, что и эти самообвинения, этот ужас, все это омерзение были отрадны душе. Тут все-таки присутствовало чувство, пылал огонь, содрогалось сердце! Со смятением угадывал я среди горя что-то похожее на освобождение и весну.
Между тем внешне я прямо-таки катился вниз. Вскоре хмель уже не был в новинку. В нашей школе много бражничали и безобразничали, я был одним из самых молодых участников этих развлечений и вскоре превратился из малыша, которого терпят, в зачинщика и заправилу, в знаменитого и бесшабашного завсегдатая кабаков. Я опять целиком принадлежал темному миру, дьяволу и слыл в этом мире замечательным парнем.
А на сердце у меня кошки скребли. Я жил в саморазрушительном беспутстве и, считаясь у товарищей вожаком и сорвиголовой, ухарем и озорником, чувствовал глубоко в себе трепет робкой, полной страха души. Помню, как у меня навернулись слезы, когда однажды воскресным утром я, выйдя из кабака, увидел на улице играющих детей, светлых, веселых, свежепричесанных и по-воскресному принаряженных. И, потешая, а то и пугая своих друзей неслыханно циничными замечаниями за залитыми пивом грязными столиками замызганных кабаков, я втайне благоговел перед всем, над чем глумился, и про себя плакал, как бы стоя на коленях перед своей душой, перед своим прошлым, перед матерью, перед отцом.