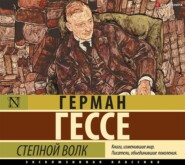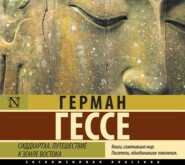По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Нарцисс и Златоуст
Автор
Жанр
Год написания книги
1930
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ты был без сознания, сынок. Дай-ка руку, пощупаем-ка пульс. Как ты себя чувствуешь?
– Хорошо. Спасибо вам, патер Ансельм, вы очень добры. Я совершенно здоров, только устал.
– Конечно, устал. Скоро опять уснешь. Выпей сначала глоток горячего вина, оно уже ждет тебя. Давай осушим с тобой по бокалу, мой мальчик, за добрую дружбу.
Он уже заботливо приготовил кувшинчик глинтвейна и поставил в сосуд с горячей водой.
– Вот мы оба и поспали немного, – засмеялся врач. – Хорош санитар, скажешь ты, не мог со сном бороться. Ну что ж, ведь и мы люди. Сейчас выпьем с тобой немного этого волшебного напитка, малыш, нет ничего приятнее такой вот маленькой тайной ночной попойки. Твое здоровье!
Златоуст засмеялся, чокнулся и отпил. Теплое вино было приправлено корицей и гвоздикой и подслащено сахаром, такого он еще никогда не пил. Ему пришло в голову, что он был уже однажды болен, тогда Нарцисс принял в нем участие. Теперь вот патер Ансельм был так мил с ним. Ему было очень хорошо, в высшей степени приятно и удивительно лежать здесь при свете лампы и среди ночи пить со старым патером сладкое теплое вино.
– Живот болит? – спросил старик.
– Нет.
– Я-то подумал, у тебя были колики, Златоуст. Значит, нет. Покажи-ка язык. Так, хорошо. Старый Ансельм и здесь обознался. Завтра ты еще полежишь, потом я приду и осмотрю тебя. А вино ты уже выпил? Да, оно должно хорошо подействовать. Дай-ка посмотрю, не осталось ли еще. На полбокала каждому наберется, если по-братски поделим. Ты нас порядком напугал, Златоуст! Лежал там, на галерее, как труп. У тебя правда живот не болит?
Они посмеялись и честно разделили остатки больничного вина, патер продолжал шутить, и Златоуст благодарно и весело смотрел на него опять прояснившимися глазами. Затем старик ушел спать.
Златоуст еще какое-то время не спал. Медленно поднимались опять из глубины души образы, снова вспыхивали слова друга, и еще раз явилась перед его внутренним взором белокурая сияющая женщина, его мать; как теплый сухой ветер, ее образ проник в него, как облако жизни, тепла, нежности и глубокого напоминания. О мать! О, как же могло случиться, что он забыл ее!
Глава пятая
До сих пор Златоуст кое-что знал о своей матери, но только из рассказов других; он утратил ее образ, а из того немногого, что, казалось, знал о ней, он, говоря с Нарциссом, о многом умалчивал. Мать была чем-то, о чем нельзя было говорить, ее стыдились. Она была танцовщицей, красивой, необузданной женщиной благородного, но недобропорядочного и языческого происхождения; отец Златоуста, так он рассказывал, вывел ее из нужды и позора, он, хоть и не был уверен, что она язычница, крестил ее и обучил обрядам, женился на ней и сделал женщиной, с которой считались. А она, прожив несколько лет покорно и безупречно, опять вспомнила свои прежние занятия, стала причиной многих скандалов, совращала мужчин, целыми днями и неделями не бывала дома, прослыла ведьмой и в конце концов, после того как муж несколько раз находил ее и возвращал, исчезла навсегда. Ее слава еще некоторое время давала о себе знать, недобрая слава, сверкнувшая, как хвост кометы, и затем угасшая. Ее муж медленно оправлялся от беспокойной жизни, страха, позора и вечных неожиданностей, которые она ему преподносила; вместо неудачной жены он воспитывал теперь сынишку, очень похожего всем своим обликом на мать; муж стал угрюмым ханжой и внушал Златоусту, что тот должен отдать свою жизнь Богу, чтобы искупить грехи матери.
Вот примерно то, что отец Златоуста имел обыкновение рассказывать о своей пропавшей жене, хотя он неохотно делал это; на эту историю намекал он настоятелю, когда привез Златоуста, и все это как страшная легенда было известно и сыну, хотя тот научился ее вытеснять и почти забывать. Но он совершенно забыл и утратил действительный образ матери, тот другой, совсем другой образ, родившийся не из рассказов отца и слуг и не из темных диких слухов. Его собственное, действительное, живое воспоминание о матери было забыто им. И вот этот-то образ, звезда его ранних лет опять взошла.
– Непостижимо, как я мог это забыть, – сказал он своему другу. – Никогда в жизни я не любил кого-нибудь так, как мать, так безусловно и пылко; никогда не чтил, не восхищался так кем-нибудь, она была для меня солнцем и луной. Бог знает, как получилось, что этот сияющий образ потемнел в моей душе, постепенно превратился в злую, бледную, бестелесную ведьму, которой она была для отца и для меня многие годы.
Нарцисс недавно закончил свое послушание и был пострижен в монахи. Странным образом переменилось его отношение к Златоусту. Златоуст же, ранее часто отклонявший предостережения друга и не принимавший тяготившее его наставничество, со времени того важного для себя переживания был полон изумленного восхищения мудростью друга. Как много его слов оказались пророческими, как глубоко заглянул тот в его душу своим жутким взором, как точно угадал его жизненную тайну, его скрытую рану, как умно исцелил его!
Юноша и выглядел исцеленным. Не только от обморока не осталось дурных последствий; как будто растаяло все надуманное, не по годам умное, неестественное в существе Златоуста, его скороспелое решение стать монахом, вера в свою обязанность с особым усердием служить Богу. Юноша, казалось, одновременно стал и моложе, и старше с тех пор, как обрел себя. Всем этим он обязан был Нарциссу.
Нарцисс же относился к своему другу с некоторых пор со своеобразной осторожностью; смотрел на него очень скромно, обходился без поучений и не выказывал своего превосходства, когда тот им восхищался. Он видел, что Златоуст черпает силы из тайных источников, которые ему самому были чужды. Он сумел способствовать их росту, но не участвовал в них. С радостью видел он, что друг освобождается от его руководительства, и все-таки временами бывал печален. Он считал себя пройденной ступенью, сброшенной кожурой; он видел, что близится конец их дружбе, которая для него была столь необходима. Он все еще знал о Златоусте больше, чем тот сам о себе, потому что хотя Златоуст и обрел свою душу и был готов следовать ее зову, но куда она его позовет, он еще не догадывался. Нарцисс же об этом догадывался, но был бессилен: путь его любимца вел в мир, где сам он никогда не окажется.
Жажда знаний у Златоуста значительно ослабела. Пропала и охота спорить с другом, со стыдом вспоминал он некоторые из их прошлых бесед. Между тем у Нарцисса, то ли из-за окончания его послушания, то ли из-за переживаний, связанных с Златоустом, пробудилась потребность в уединении, аскезе и духовных упражнениях, склонность к постам и долгим молитвам, частым исповедям, добровольным покаяниям, и эту склонность Златоуст был в состоянии понять, даже чуть ли не разделить. Со времени выздоровления его инстинкт очень обострился, и если он совсем ничего не знал о своих будущих целях, то с отчетливой и часто устрашающей ясностью чувствовал, что решается его судьба, что отныне некая запретная пора, время невинности и покоя, прошла, и все в нем было в напряженной готовности. Нередко предчувствие было блаженным, полночи не давало спать подобно сладкой влюбленности; нередко же оно бывало темным и глубоко удручающим. Мать, некогда утраченная, снова вернулась к нему, это было большое счастье. Но куда поведет сына ее манящий зов? К неопределенности, запутанности, к нужде, может быть, к смерти. К покою, тишине, надежности, к монашеской келье и жизни в монастырской общине ее зов не вел, он не имел ничего общего с отцовскими заповедями, которые он так долго принимал за собственные желания. Этим ощущением, которое часто бывало сильным, страшным и жгучим, как горячее физическое чувство, питалась набожность Златоуста. Повторяя длинные молитвы к Богородице, он освобождался от избытка чувства к собственной матери. Однако нередко его молитвы опять заканчивались теми странными, великолепными мечтами, которые он теперь часто переживал: снами наяву, при наполовину бодрствующем сознании, мечтами о ней, в которых участвовали все чувства. Тогда материнский мир окружал его благоуханием, таинственно смотрел темными глазами любви, шумел, как море и рай, ласково лепетал бессмысленные или скорее переполненные смыслом звуки, имел вкус сладкого и соленого, касался шелковистыми волосами жаждущих губ и глаз. В матери было не только все прелестное – милый голубой взгляд любви, чудесная, сияющая счастьем улыбка, в ней было и все ужасное и темное – все страсти, все страхи, все грехи, все беды, все рождения, все умирания.
Глубоко погружался юноша в эти мечты, в эти хитросплетения одухотворенных чувств. В них поднималось вновь не только чарующее, милое прошлое: детство и материнская любовь, сияющее золотое утро жизни; в них таилось и грозное обещание, манящее и опасное будущее. Иногда эти мечтания, в которых мать, Пречистая Дева и возлюбленная объединялись, казались ему потом ужасным преступлением и кощунством, смертным грехом, который никогда уже не искупить; в другой раз он находил в них спасение, совершенную гармонию. Полная тайн, жизнь не отводила от него глаз, темный загадочный мир, застывший ощетинившийся лес, исполненный сказочных опасностей, – все это были тайны матери, исходили от нее, вели к ней, они были маленьким темным кругом, маленькой грозящей бездной в ее светлом взоре.
Многое из забытого детства всплывало в этих мечтаниях о матери; из бесконечных глубин и утрат расцветало множество маленьких цветов-воспоминаний, мило выглядывали они, благоухали, полные предчувствий, напоминая о детских ощущениях – то ли переживаниях, то ли мечтах. Иногда ему грезились рыбы, черные и серебристые: они подплывали к нему, прохладные и гладкие, проплывали в него, через него, были как посланцы дивных вестей счастья из какой-то более прекрасной действительности; превращаясь в тени, виляя хвостами, исчезали, оставляя вместо вестей новые тайны. Часто виделись ему плывущие рыбы и летящие птицы, и каждая рыба или птица была его созданием, зависела от него, и он управлял ими, как своим дыханием, излучал их из себя, как взгляд, как мысль, возвращал назад в себя. О саде грезил он часто, волшебном саде со сказочными деревьями, огромными цветами, глубокими темно-голубыми гротами; из трав сверкали глазами незнакомые животные, по ветвям скользили гладкие, упругие змеи; лозы и кустарники были усыпаны огромными влажно блестевшими ягодами; они наливались в его руке, когда он срывал их, и сочились теплым, как кровь, соком или имели глаза и поводили ими томно и лукаво; он прислонялся к дереву, хватался за сук и видел между стволом и суком комок спутанных волос, как под мышкой. Однажды он увидел во сне себя или своего святого, Хризостома, Златоуста, у него были золотые уста, и он говорил этими устами слова, и слова, как маленькие роящиеся птицы, вылетали порхающими стаями.
Однажды ему приснилось: он был взрослым, но сидел на земле, как ребенок, перед ним лежала глина, и он лепил из нее фигуры – лошадку, быка, маленького мужчину, маленькую женщину. Ему нравилось лепить, но он делал животным и людям до смешного большие половые органы, во сне это казалось ему очень забавным. Устав от игры, он пошел было дальше и вдруг почувствовал, что сзади что-то ожило, что-то огромное беззвучно приближалось; он оглянулся и с глубоким удивлением и страхом, хотя и не без радости, увидел, что его маленькие глиняные фигурки стали большими и ожили. Огромные безмолвные великаны прошли мимо него, все возрастая; молча шли они дальше в мир, высокие, как башни.
В этом мире грез он жил больше, чем в действительности. Действительный мир – классная комната, монастырский двор, библиотека, дортуар и часовня – был лишь поверхностью, тонкой пульсирующей оболочкой над сверхреальным миром образов, полным грез. Самой малости было достаточно, чтобы пробить эту тонкую оболочку: какого-нибудь необычного звучания греческого слова во время обычного урока, волны аромата трав из сумки патера Ансельма, увлекающегося ботаникой, взгляда на завиток каменного листа, свешивающегося с колонны оконной арки, – этих малых побуждений хватало, чтобы за безмятежной действительностью без прикрас отверзлись ревущие бездны, потоки и млечные пути мира душевных образов. Латинский инициал становился благоухающим лицом матери, протяжные звуки «Аве Мария» – вратами рая, греческая буква – несущимся конем, приподнявшейся было змеей, спокойно скользившей меж цветов, и вот уже опять вместо них застывшая страница грамматики.
Редко говорил он об этом, лишь изредка намекал Нарциссу на существование этого мира грез.
– Я думаю, – сказал он однажды, – что лепесток цветка или червяк на дороге говорят и содержат много больше, чем книги целой библиотеки. Буквами и словами ничего нельзя сказать. Иногда я пишу какую-нибудь греческую букву, тету или омегу, поверну чуть-чуть перо, и вот буква уже виляет хвостом, как рыба, и в одну секунду напомнит о всех ручьях и потоках мира, о прохладе и влаге, об океанах Гомера и о водах, по которым пытался идти Петр[2 - Знаменитый эпизод из Евангелия от Матфея: гл. 14.], или же буква становится птицей, выставляет хвост, топорщит перья, раздувается, смеясь, улетает. Ну как, Нарцисс, ты, верно, не очень-то высокого мнения о таких буквах? Но говорю тебе: ими писал мир Бог.
– Я высокого мнения о них, – сказал Нарцисс печально. – Это волшебные буквы, ими можно изгнать всех бесов. Правда, для занятий науками они не годятся. Дух любит твердое, оформленное, он хочет полагаться на свои знаки, он любит сущее, а не становящееся, действительное, а не возможное. Он не терпит, чтобы омега становилась змеей и птицей. В природе Дух не может жить, только вопреки ей, только как ее противоположность. Теперь ты веришь мне, Златоуст, что никогда не будешь ученым?
О да, Златоуст поверил этому давно, он был с этим согласен.
– Я больше не одержим стремлением к вашему Духу, – сказал он посмеиваясь. – С Духом и с ученостью дело обстоит так же, как с моим отцом: мне казалось, что я очень люблю его и похож на него, я свято верил всем его речам. Но едва вернулась мать, я узнал, что такое любовь, и рядом с ее образом отец вдруг стал незначительным и безрадостным, почти отвратительным. И теперь я склонен считать все духовное отцовским, нематеринским, враждебным материнскому началу и недостойным высокой оценки.
Он говорил шутя, но ему не удалось развеселить друга, убрать печаль с его лица. Нарцисс молча взглянул на него, в его взгляде была ласка. Потом он сказал:
– Я прекрасно понимаю тебя. Теперь нам нечего больше спорить: ты пробудился и теперь уже знаешь разницу между собой и мной, разницу между материнским и отцовским началом, между душой и Духом. А скоро, по-видимому, узнаешь и то, что твоя жизнь в монастыре и твое стремление к монашеству были заблуждением, измышлением твоего отца, который хотел этим смыть грех с памяти о матери, а может быть, всего лишь отомстить ей. Или ты все еще думаешь, что предназначен всю жизнь оставаться в монастыре?
Задумчиво рассматривал Златоуст руки своего друга, эти благородные, строгие и вместе с тем нежные, худые белые руки. Никто бы не усомнился, что это руки аскета и ученого.
– Не знаю, – сказал Златоуст певучим, несколько неуверенным голосом, растягивая каждый звук, как привык говорить с некоторых пор. – Я в самом деле не знаю. Ты довольно строго судишь о моем отце. Ему ведь было нелегко. А может, ты и прав. Вот уже три года, как я учусь здесь, а он ни разу не навестил меня. Он надеется, что я навсегда останусь здесь. Может быть, это было бы лучше всего, я ведь и сам всегда этого хотел. Но теперь я не знаю, чего хочу. Раньше все было просто, просто, как буквы в учебнике. Теперь все не просто, даже буквы. Все стало многозначно и многолико. Не знаю, что из меня выйдет, теперь я не могу думать об этих вещах.
– Ты и не должен, – сказал Нарцисс. – Время покажет, куда ведет твой путь. Начался он с того, что привел тебя обратно к матери, и еще больше приблизит к ней. Что касается твоего отца, я не сужу его слишком строго. А хотел бы ты вернуться к нему?
– Нет, Нарцисс, конечно, нет. Иначе я сделал бы это сразу по окончании школы или уже сейчас. Ведь раз я не буду ученым, то хватит с меня того, что я знаю из латыни, греческого и математики. Нет, к отцу я не хочу… – Он задумчиво смотрел перед собой и вдруг воскликнул: – Но как это у тебя получается, ты все время говоришь мне слова и ставишь вопросы, которые прямо-таки пронзают меня и проясняют мне меня самого? Вот и теперь твой вопрос, хочу ли я вернуться к отцу, сразу показал мне, что я не хочу этого. Как ты это делаешь? Кажется, что ты все знаешь. Ты говорил мне кое-что о себе и обо мне, поначалу я не очень-то и понимал это, а потом оно стало таким важным для меня! Ты первый определил материнские истоки во мне, именно ты понял, что я был под чарами и забыл свое детство! Откуда ты так хорошо знаешь людей? Нельзя ли и мне научиться этому?
Нарцисс, улыбаясь, покачал головой:
– Нет, мой милый, у тебя это не получится. Есть люди, которые многому могут научиться, но ты не из их числа. Ты никогда не будешь учащимся. Да и зачем? Тебе это не нужно. У тебя другие дарования. У тебя больше дарований, чем у меня. Ты богаче меня, но и слабее, твой путь будет лучше и труднее, чем мой. Иногда ты не хотел меня понять, часто вставал на дыбы, как жеребенок, не всегда бывало легко, и часто я вынужден был делать тебе больно. Я должен был тебя пробудить, ты ведь спал. Даже мое напоминание тебе о матери поначалу причинило тебе боль, сильную боль, ты лежал как мертвый на галерее, где тебя нашли. Но так должно было быть… Нет, не гладь меня по голове! Нет, оставь. Я этого не люблю.
– И учиться мне нечему? Я навсегда останусь глупым ребенком?
– Найдутся другие, у которых ты будешь учиться. С тем, чему ты мог научиться у меня, малыш, покончено.
– О нет, – воскликнул Златоуст, – мы не для этого стали друзьями! Что же это за дружба, которая достигает цели за короткое время, а затем прекращается! Или я тебе надоел? Опротивел?
Нарцисс, опустив голову, быстро ходил взад и вперед, потом остановился перед другом.
– Оставь, – сказал он мягко, – ты прекрасно знаешь, что не противен мне.
С сомнением глядел он на Златоуста, потом опять принялся ходить взад и вперед, еще раз остановился; с худого сурового лица на Златоуста твердо смотрели глаза друга. Тихим голосом, но твердо и сурово он сказал:
– Послушай, Златоуст! Наша дружба была хорошей, у нее была цель, и она достигнута: ты пробудился. Надеюсь, она не кончена, надеюсь, она возобновится и приведет к новым целям. Но сегодня цели нет. Твоя – неопределенна, и я не могу ни вести тебя, ни сопровождать. Спроси свою мать, спроси ее образ, слушайся ее! Моя же цель определенней, она здесь, в монастыре, она требует меня каждый час. Я смею быть твоим другом, но я не смею быть влюбленным. Я – монах, я дал обет. Перед рукоположением я намерен получить отпуск от учительства и посвятить несколько недель посту и духовным упражнениям. В это время я не смогу говорить ни о чем мирском, и с тобой тоже.
Златоуст понял. Печально сказал он:
– Итак, ты будешь делать то, что делал бы и я, если бы вступил в Орден. А когда закончишь подготовку, когда будет достаточно постов, и молитв, и бодрствований, что тогда станет твоей целью?
– Ты же знаешь, – сказал Нарцисс.
– Ну да. Через несколько лет станешь первым учителем, возможно, даже управляющим школой. Будешь совершенствовать преподавание, увеличивать библиотеку. Может быть, сам станешь писать книги. Не так ли? Но в чем же будет цель?
Нарцисс слабо улыбнулся:
– Цель? Может, я умру управляющим школой, или настоятелем, или епископом. Все равно. Цель же – всегда быть там, где я смогу служить наилучшим образом, где мой характер, мои качества и дарования найдут наилучшую почву, наибольшее воздействие. Другой цели нет.
Златоуст. Никакой другой цели для монаха?
– Хорошо. Спасибо вам, патер Ансельм, вы очень добры. Я совершенно здоров, только устал.
– Конечно, устал. Скоро опять уснешь. Выпей сначала глоток горячего вина, оно уже ждет тебя. Давай осушим с тобой по бокалу, мой мальчик, за добрую дружбу.
Он уже заботливо приготовил кувшинчик глинтвейна и поставил в сосуд с горячей водой.
– Вот мы оба и поспали немного, – засмеялся врач. – Хорош санитар, скажешь ты, не мог со сном бороться. Ну что ж, ведь и мы люди. Сейчас выпьем с тобой немного этого волшебного напитка, малыш, нет ничего приятнее такой вот маленькой тайной ночной попойки. Твое здоровье!
Златоуст засмеялся, чокнулся и отпил. Теплое вино было приправлено корицей и гвоздикой и подслащено сахаром, такого он еще никогда не пил. Ему пришло в голову, что он был уже однажды болен, тогда Нарцисс принял в нем участие. Теперь вот патер Ансельм был так мил с ним. Ему было очень хорошо, в высшей степени приятно и удивительно лежать здесь при свете лампы и среди ночи пить со старым патером сладкое теплое вино.
– Живот болит? – спросил старик.
– Нет.
– Я-то подумал, у тебя были колики, Златоуст. Значит, нет. Покажи-ка язык. Так, хорошо. Старый Ансельм и здесь обознался. Завтра ты еще полежишь, потом я приду и осмотрю тебя. А вино ты уже выпил? Да, оно должно хорошо подействовать. Дай-ка посмотрю, не осталось ли еще. На полбокала каждому наберется, если по-братски поделим. Ты нас порядком напугал, Златоуст! Лежал там, на галерее, как труп. У тебя правда живот не болит?
Они посмеялись и честно разделили остатки больничного вина, патер продолжал шутить, и Златоуст благодарно и весело смотрел на него опять прояснившимися глазами. Затем старик ушел спать.
Златоуст еще какое-то время не спал. Медленно поднимались опять из глубины души образы, снова вспыхивали слова друга, и еще раз явилась перед его внутренним взором белокурая сияющая женщина, его мать; как теплый сухой ветер, ее образ проник в него, как облако жизни, тепла, нежности и глубокого напоминания. О мать! О, как же могло случиться, что он забыл ее!
Глава пятая
До сих пор Златоуст кое-что знал о своей матери, но только из рассказов других; он утратил ее образ, а из того немногого, что, казалось, знал о ней, он, говоря с Нарциссом, о многом умалчивал. Мать была чем-то, о чем нельзя было говорить, ее стыдились. Она была танцовщицей, красивой, необузданной женщиной благородного, но недобропорядочного и языческого происхождения; отец Златоуста, так он рассказывал, вывел ее из нужды и позора, он, хоть и не был уверен, что она язычница, крестил ее и обучил обрядам, женился на ней и сделал женщиной, с которой считались. А она, прожив несколько лет покорно и безупречно, опять вспомнила свои прежние занятия, стала причиной многих скандалов, совращала мужчин, целыми днями и неделями не бывала дома, прослыла ведьмой и в конце концов, после того как муж несколько раз находил ее и возвращал, исчезла навсегда. Ее слава еще некоторое время давала о себе знать, недобрая слава, сверкнувшая, как хвост кометы, и затем угасшая. Ее муж медленно оправлялся от беспокойной жизни, страха, позора и вечных неожиданностей, которые она ему преподносила; вместо неудачной жены он воспитывал теперь сынишку, очень похожего всем своим обликом на мать; муж стал угрюмым ханжой и внушал Златоусту, что тот должен отдать свою жизнь Богу, чтобы искупить грехи матери.
Вот примерно то, что отец Златоуста имел обыкновение рассказывать о своей пропавшей жене, хотя он неохотно делал это; на эту историю намекал он настоятелю, когда привез Златоуста, и все это как страшная легенда было известно и сыну, хотя тот научился ее вытеснять и почти забывать. Но он совершенно забыл и утратил действительный образ матери, тот другой, совсем другой образ, родившийся не из рассказов отца и слуг и не из темных диких слухов. Его собственное, действительное, живое воспоминание о матери было забыто им. И вот этот-то образ, звезда его ранних лет опять взошла.
– Непостижимо, как я мог это забыть, – сказал он своему другу. – Никогда в жизни я не любил кого-нибудь так, как мать, так безусловно и пылко; никогда не чтил, не восхищался так кем-нибудь, она была для меня солнцем и луной. Бог знает, как получилось, что этот сияющий образ потемнел в моей душе, постепенно превратился в злую, бледную, бестелесную ведьму, которой она была для отца и для меня многие годы.
Нарцисс недавно закончил свое послушание и был пострижен в монахи. Странным образом переменилось его отношение к Златоусту. Златоуст же, ранее часто отклонявший предостережения друга и не принимавший тяготившее его наставничество, со времени того важного для себя переживания был полон изумленного восхищения мудростью друга. Как много его слов оказались пророческими, как глубоко заглянул тот в его душу своим жутким взором, как точно угадал его жизненную тайну, его скрытую рану, как умно исцелил его!
Юноша и выглядел исцеленным. Не только от обморока не осталось дурных последствий; как будто растаяло все надуманное, не по годам умное, неестественное в существе Златоуста, его скороспелое решение стать монахом, вера в свою обязанность с особым усердием служить Богу. Юноша, казалось, одновременно стал и моложе, и старше с тех пор, как обрел себя. Всем этим он обязан был Нарциссу.
Нарцисс же относился к своему другу с некоторых пор со своеобразной осторожностью; смотрел на него очень скромно, обходился без поучений и не выказывал своего превосходства, когда тот им восхищался. Он видел, что Златоуст черпает силы из тайных источников, которые ему самому были чужды. Он сумел способствовать их росту, но не участвовал в них. С радостью видел он, что друг освобождается от его руководительства, и все-таки временами бывал печален. Он считал себя пройденной ступенью, сброшенной кожурой; он видел, что близится конец их дружбе, которая для него была столь необходима. Он все еще знал о Златоусте больше, чем тот сам о себе, потому что хотя Златоуст и обрел свою душу и был готов следовать ее зову, но куда она его позовет, он еще не догадывался. Нарцисс же об этом догадывался, но был бессилен: путь его любимца вел в мир, где сам он никогда не окажется.
Жажда знаний у Златоуста значительно ослабела. Пропала и охота спорить с другом, со стыдом вспоминал он некоторые из их прошлых бесед. Между тем у Нарцисса, то ли из-за окончания его послушания, то ли из-за переживаний, связанных с Златоустом, пробудилась потребность в уединении, аскезе и духовных упражнениях, склонность к постам и долгим молитвам, частым исповедям, добровольным покаяниям, и эту склонность Златоуст был в состоянии понять, даже чуть ли не разделить. Со времени выздоровления его инстинкт очень обострился, и если он совсем ничего не знал о своих будущих целях, то с отчетливой и часто устрашающей ясностью чувствовал, что решается его судьба, что отныне некая запретная пора, время невинности и покоя, прошла, и все в нем было в напряженной готовности. Нередко предчувствие было блаженным, полночи не давало спать подобно сладкой влюбленности; нередко же оно бывало темным и глубоко удручающим. Мать, некогда утраченная, снова вернулась к нему, это было большое счастье. Но куда поведет сына ее манящий зов? К неопределенности, запутанности, к нужде, может быть, к смерти. К покою, тишине, надежности, к монашеской келье и жизни в монастырской общине ее зов не вел, он не имел ничего общего с отцовскими заповедями, которые он так долго принимал за собственные желания. Этим ощущением, которое часто бывало сильным, страшным и жгучим, как горячее физическое чувство, питалась набожность Златоуста. Повторяя длинные молитвы к Богородице, он освобождался от избытка чувства к собственной матери. Однако нередко его молитвы опять заканчивались теми странными, великолепными мечтами, которые он теперь часто переживал: снами наяву, при наполовину бодрствующем сознании, мечтами о ней, в которых участвовали все чувства. Тогда материнский мир окружал его благоуханием, таинственно смотрел темными глазами любви, шумел, как море и рай, ласково лепетал бессмысленные или скорее переполненные смыслом звуки, имел вкус сладкого и соленого, касался шелковистыми волосами жаждущих губ и глаз. В матери было не только все прелестное – милый голубой взгляд любви, чудесная, сияющая счастьем улыбка, в ней было и все ужасное и темное – все страсти, все страхи, все грехи, все беды, все рождения, все умирания.
Глубоко погружался юноша в эти мечты, в эти хитросплетения одухотворенных чувств. В них поднималось вновь не только чарующее, милое прошлое: детство и материнская любовь, сияющее золотое утро жизни; в них таилось и грозное обещание, манящее и опасное будущее. Иногда эти мечтания, в которых мать, Пречистая Дева и возлюбленная объединялись, казались ему потом ужасным преступлением и кощунством, смертным грехом, который никогда уже не искупить; в другой раз он находил в них спасение, совершенную гармонию. Полная тайн, жизнь не отводила от него глаз, темный загадочный мир, застывший ощетинившийся лес, исполненный сказочных опасностей, – все это были тайны матери, исходили от нее, вели к ней, они были маленьким темным кругом, маленькой грозящей бездной в ее светлом взоре.
Многое из забытого детства всплывало в этих мечтаниях о матери; из бесконечных глубин и утрат расцветало множество маленьких цветов-воспоминаний, мило выглядывали они, благоухали, полные предчувствий, напоминая о детских ощущениях – то ли переживаниях, то ли мечтах. Иногда ему грезились рыбы, черные и серебристые: они подплывали к нему, прохладные и гладкие, проплывали в него, через него, были как посланцы дивных вестей счастья из какой-то более прекрасной действительности; превращаясь в тени, виляя хвостами, исчезали, оставляя вместо вестей новые тайны. Часто виделись ему плывущие рыбы и летящие птицы, и каждая рыба или птица была его созданием, зависела от него, и он управлял ими, как своим дыханием, излучал их из себя, как взгляд, как мысль, возвращал назад в себя. О саде грезил он часто, волшебном саде со сказочными деревьями, огромными цветами, глубокими темно-голубыми гротами; из трав сверкали глазами незнакомые животные, по ветвям скользили гладкие, упругие змеи; лозы и кустарники были усыпаны огромными влажно блестевшими ягодами; они наливались в его руке, когда он срывал их, и сочились теплым, как кровь, соком или имели глаза и поводили ими томно и лукаво; он прислонялся к дереву, хватался за сук и видел между стволом и суком комок спутанных волос, как под мышкой. Однажды он увидел во сне себя или своего святого, Хризостома, Златоуста, у него были золотые уста, и он говорил этими устами слова, и слова, как маленькие роящиеся птицы, вылетали порхающими стаями.
Однажды ему приснилось: он был взрослым, но сидел на земле, как ребенок, перед ним лежала глина, и он лепил из нее фигуры – лошадку, быка, маленького мужчину, маленькую женщину. Ему нравилось лепить, но он делал животным и людям до смешного большие половые органы, во сне это казалось ему очень забавным. Устав от игры, он пошел было дальше и вдруг почувствовал, что сзади что-то ожило, что-то огромное беззвучно приближалось; он оглянулся и с глубоким удивлением и страхом, хотя и не без радости, увидел, что его маленькие глиняные фигурки стали большими и ожили. Огромные безмолвные великаны прошли мимо него, все возрастая; молча шли они дальше в мир, высокие, как башни.
В этом мире грез он жил больше, чем в действительности. Действительный мир – классная комната, монастырский двор, библиотека, дортуар и часовня – был лишь поверхностью, тонкой пульсирующей оболочкой над сверхреальным миром образов, полным грез. Самой малости было достаточно, чтобы пробить эту тонкую оболочку: какого-нибудь необычного звучания греческого слова во время обычного урока, волны аромата трав из сумки патера Ансельма, увлекающегося ботаникой, взгляда на завиток каменного листа, свешивающегося с колонны оконной арки, – этих малых побуждений хватало, чтобы за безмятежной действительностью без прикрас отверзлись ревущие бездны, потоки и млечные пути мира душевных образов. Латинский инициал становился благоухающим лицом матери, протяжные звуки «Аве Мария» – вратами рая, греческая буква – несущимся конем, приподнявшейся было змеей, спокойно скользившей меж цветов, и вот уже опять вместо них застывшая страница грамматики.
Редко говорил он об этом, лишь изредка намекал Нарциссу на существование этого мира грез.
– Я думаю, – сказал он однажды, – что лепесток цветка или червяк на дороге говорят и содержат много больше, чем книги целой библиотеки. Буквами и словами ничего нельзя сказать. Иногда я пишу какую-нибудь греческую букву, тету или омегу, поверну чуть-чуть перо, и вот буква уже виляет хвостом, как рыба, и в одну секунду напомнит о всех ручьях и потоках мира, о прохладе и влаге, об океанах Гомера и о водах, по которым пытался идти Петр[2 - Знаменитый эпизод из Евангелия от Матфея: гл. 14.], или же буква становится птицей, выставляет хвост, топорщит перья, раздувается, смеясь, улетает. Ну как, Нарцисс, ты, верно, не очень-то высокого мнения о таких буквах? Но говорю тебе: ими писал мир Бог.
– Я высокого мнения о них, – сказал Нарцисс печально. – Это волшебные буквы, ими можно изгнать всех бесов. Правда, для занятий науками они не годятся. Дух любит твердое, оформленное, он хочет полагаться на свои знаки, он любит сущее, а не становящееся, действительное, а не возможное. Он не терпит, чтобы омега становилась змеей и птицей. В природе Дух не может жить, только вопреки ей, только как ее противоположность. Теперь ты веришь мне, Златоуст, что никогда не будешь ученым?
О да, Златоуст поверил этому давно, он был с этим согласен.
– Я больше не одержим стремлением к вашему Духу, – сказал он посмеиваясь. – С Духом и с ученостью дело обстоит так же, как с моим отцом: мне казалось, что я очень люблю его и похож на него, я свято верил всем его речам. Но едва вернулась мать, я узнал, что такое любовь, и рядом с ее образом отец вдруг стал незначительным и безрадостным, почти отвратительным. И теперь я склонен считать все духовное отцовским, нематеринским, враждебным материнскому началу и недостойным высокой оценки.
Он говорил шутя, но ему не удалось развеселить друга, убрать печаль с его лица. Нарцисс молча взглянул на него, в его взгляде была ласка. Потом он сказал:
– Я прекрасно понимаю тебя. Теперь нам нечего больше спорить: ты пробудился и теперь уже знаешь разницу между собой и мной, разницу между материнским и отцовским началом, между душой и Духом. А скоро, по-видимому, узнаешь и то, что твоя жизнь в монастыре и твое стремление к монашеству были заблуждением, измышлением твоего отца, который хотел этим смыть грех с памяти о матери, а может быть, всего лишь отомстить ей. Или ты все еще думаешь, что предназначен всю жизнь оставаться в монастыре?
Задумчиво рассматривал Златоуст руки своего друга, эти благородные, строгие и вместе с тем нежные, худые белые руки. Никто бы не усомнился, что это руки аскета и ученого.
– Не знаю, – сказал Златоуст певучим, несколько неуверенным голосом, растягивая каждый звук, как привык говорить с некоторых пор. – Я в самом деле не знаю. Ты довольно строго судишь о моем отце. Ему ведь было нелегко. А может, ты и прав. Вот уже три года, как я учусь здесь, а он ни разу не навестил меня. Он надеется, что я навсегда останусь здесь. Может быть, это было бы лучше всего, я ведь и сам всегда этого хотел. Но теперь я не знаю, чего хочу. Раньше все было просто, просто, как буквы в учебнике. Теперь все не просто, даже буквы. Все стало многозначно и многолико. Не знаю, что из меня выйдет, теперь я не могу думать об этих вещах.
– Ты и не должен, – сказал Нарцисс. – Время покажет, куда ведет твой путь. Начался он с того, что привел тебя обратно к матери, и еще больше приблизит к ней. Что касается твоего отца, я не сужу его слишком строго. А хотел бы ты вернуться к нему?
– Нет, Нарцисс, конечно, нет. Иначе я сделал бы это сразу по окончании школы или уже сейчас. Ведь раз я не буду ученым, то хватит с меня того, что я знаю из латыни, греческого и математики. Нет, к отцу я не хочу… – Он задумчиво смотрел перед собой и вдруг воскликнул: – Но как это у тебя получается, ты все время говоришь мне слова и ставишь вопросы, которые прямо-таки пронзают меня и проясняют мне меня самого? Вот и теперь твой вопрос, хочу ли я вернуться к отцу, сразу показал мне, что я не хочу этого. Как ты это делаешь? Кажется, что ты все знаешь. Ты говорил мне кое-что о себе и обо мне, поначалу я не очень-то и понимал это, а потом оно стало таким важным для меня! Ты первый определил материнские истоки во мне, именно ты понял, что я был под чарами и забыл свое детство! Откуда ты так хорошо знаешь людей? Нельзя ли и мне научиться этому?
Нарцисс, улыбаясь, покачал головой:
– Нет, мой милый, у тебя это не получится. Есть люди, которые многому могут научиться, но ты не из их числа. Ты никогда не будешь учащимся. Да и зачем? Тебе это не нужно. У тебя другие дарования. У тебя больше дарований, чем у меня. Ты богаче меня, но и слабее, твой путь будет лучше и труднее, чем мой. Иногда ты не хотел меня понять, часто вставал на дыбы, как жеребенок, не всегда бывало легко, и часто я вынужден был делать тебе больно. Я должен был тебя пробудить, ты ведь спал. Даже мое напоминание тебе о матери поначалу причинило тебе боль, сильную боль, ты лежал как мертвый на галерее, где тебя нашли. Но так должно было быть… Нет, не гладь меня по голове! Нет, оставь. Я этого не люблю.
– И учиться мне нечему? Я навсегда останусь глупым ребенком?
– Найдутся другие, у которых ты будешь учиться. С тем, чему ты мог научиться у меня, малыш, покончено.
– О нет, – воскликнул Златоуст, – мы не для этого стали друзьями! Что же это за дружба, которая достигает цели за короткое время, а затем прекращается! Или я тебе надоел? Опротивел?
Нарцисс, опустив голову, быстро ходил взад и вперед, потом остановился перед другом.
– Оставь, – сказал он мягко, – ты прекрасно знаешь, что не противен мне.
С сомнением глядел он на Златоуста, потом опять принялся ходить взад и вперед, еще раз остановился; с худого сурового лица на Златоуста твердо смотрели глаза друга. Тихим голосом, но твердо и сурово он сказал:
– Послушай, Златоуст! Наша дружба была хорошей, у нее была цель, и она достигнута: ты пробудился. Надеюсь, она не кончена, надеюсь, она возобновится и приведет к новым целям. Но сегодня цели нет. Твоя – неопределенна, и я не могу ни вести тебя, ни сопровождать. Спроси свою мать, спроси ее образ, слушайся ее! Моя же цель определенней, она здесь, в монастыре, она требует меня каждый час. Я смею быть твоим другом, но я не смею быть влюбленным. Я – монах, я дал обет. Перед рукоположением я намерен получить отпуск от учительства и посвятить несколько недель посту и духовным упражнениям. В это время я не смогу говорить ни о чем мирском, и с тобой тоже.
Златоуст понял. Печально сказал он:
– Итак, ты будешь делать то, что делал бы и я, если бы вступил в Орден. А когда закончишь подготовку, когда будет достаточно постов, и молитв, и бодрствований, что тогда станет твоей целью?
– Ты же знаешь, – сказал Нарцисс.
– Ну да. Через несколько лет станешь первым учителем, возможно, даже управляющим школой. Будешь совершенствовать преподавание, увеличивать библиотеку. Может быть, сам станешь писать книги. Не так ли? Но в чем же будет цель?
Нарцисс слабо улыбнулся:
– Цель? Может, я умру управляющим школой, или настоятелем, или епископом. Все равно. Цель же – всегда быть там, где я смогу служить наилучшим образом, где мой характер, мои качества и дарования найдут наилучшую почву, наибольшее воздействие. Другой цели нет.
Златоуст. Никакой другой цели для монаха?