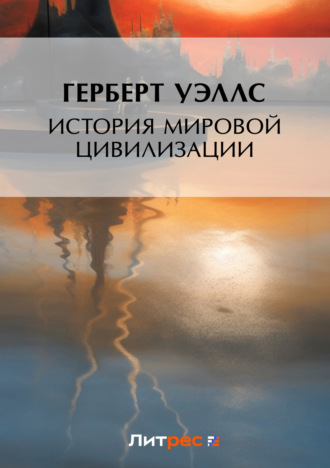
История мировой цивилизации
В XIV столетии мы наблюдаем кратковременное возрождение монгольского могущества при Тамерлане, потомке Чингисхана. Он обосновался в Западном Туркестане, принял титул великого хана (в 1369 году) и завоевал все земли, от Сирии до Дели в Индии. Из всех монгольских завоевателей он был самым жестоким и разрушительным. Он основал царство на крови и насилии, распавшееся, впрочем, после его смерти. Однако, в 1505 году потомок Тамерлана, авантюрист по имени Бабур, собрал войско, вооруженное огнестрельным оружием, и нагрянул на равнины Индии. Внук Бабура, Акбар (1556–1605 гг.) довершил его завоевания, и эта династия монголов (или «моголов», как их звали арабы) царствовала в Дели над большею частью Индии вплоть до XVIII столетия.
Одним из последствий первого великого натиска монгольских завоевателей в XIII столетии было вытеснение одного из тюркских племен, турок-оттоманов, из Туркестана в Малую Азию. Они расширили и укрепили свою власть в Малой Азии, переправились через Дарданеллы, завоевали Македонию, Сербию и Болгарию, и в результате Константинополь оказался как бы островом посреди оттоманских владений. В 1453 г. султан Магомет II взял приступом Константинополь, начавши штурм с европейской стороны при помощи многочисленных орудий. Событие это вызвало в Европе значительное волнение, стали поговаривать о крестовом походе, но дни крестовых походов уже миновали.
В течение XVI столетия оттоманские султаны завоевали Багдад, Венгрию, Египет и большую часть Северной Африки, и с помощью флота сделались хозяевами Средиземного моря. Они чуть было не взяли Вену и наложили дань на императора. В общем, в XV столетии можно отметить лишь два факта, идущие вразрез с общим упадком христианского владычества: одним из них было восстановление независимости Москвы (1480 г.); другой – постепенное отвоевание Испании христианами. В 1942 году последнее из мусульманских королевств на полуострове, Гренада, перешло к королю Фердинанду Арагонскому и его супруге королеве Изабелле Кастильской.
Однако, гордыня оттоманов была сломлена лишь в 1571 году, в морском бою при Лепанто, когда над водами Средиземного моря было восстановлено первенство христиан.
Глава XLIX. Умственное возрождение европейцев
На протяжении всего XII столетия европейская мысль подавала немало признаков своего оживления и освобождения и была накануне возобновления древнейших научных изысканий греков и отвлеченных умозрений в духе итальянца Лукреция. Причин этого возрождения было много, и они были очень сложны. Прекращение частных войн, более высокий уровень жизненных удобств и большая безопасность, воцарившиеся после крестовых походов, а также толчок, данный человеческому уму и этими экспедициями, обогатившими его новым опытом, – все это подготовило и обусловило собою возрождение мысли. Торговля вновь оживилась; города возвращались к удобной и спокойной жизни; повышался уровень образования духовенства, просвещение распространялось и среди мирян. XIII и XIV столетия являются периодом развития независимых или почти независимых городов, каковы, например, Венеция, Флоренция, Генуя, Лиссабон, Париж, Брюгге, Лондон, Антверпен, Гамбург, Нюренберг, Новгород, Висби и Берген. Все это были торговые города, посещаемые путешественниками, а когда люди путешествуют и торгуют, они неизбежно о многом толкуют и размышляют. Полемика пап и монархов, явная бесчеловечность и несправедливость преследований еретиков, – все эти факты заставляли людей сомневаться в авторитете церкви, подвергать критике и обсуждать самые основные вопросы.
Мы видели уже, каким образом арабы способствовали воскрешению Аристотеля в Европе, видели также, что Фридрих II сыграл роль посредника между возрождающейся европейской мыслью и влиянием арабской философии и науки. Еще большее влияние, в смысле сообщения умственных толчков, оказали евреи. Самый факт их существования был как бы вызовом притязаниям церкви. Наконец, тайные и заманчивые исследования алхимиков распространялись все шире и побуждали людей к, хотя незначительным и скрытым, но все же плодотворным занятиям экспериментальными науками.
Умственное движение захватило не только одни независимые и образованные классы. Мысль простонародья также пробудилась и заработала с беспримерной во всей мировой истории силой. Невзирая на роль священников и на свои гонения, христианство, казалось, разносило элементы умственного брожения повсюду, куда проникало его учение. Оно устанавливало прямую зависимость между совестью отдельною человека и богом справедливости, так что в известных случаях человек осмеливался уже составить свое собственное мнение о князьях, прелатах или же, наконец, о религии. Философские споры возобновились в Европе с XI столетия; в Париже, Оксфорде, Болонье и в других центрах существовали крупные и быстро развивавшиеся университеты. Средневековые схоластики поднимали и усиленно обсуждали ряд вопросов о ценности и значении слов, производя таким образом подготовительную работу, необходимую для точного мышления последующего научного века. Совершенно особняком, благодаря своему замечательному гению, стоял Роджер Бэкон (около 1210–1293 гг.), францисканский монах из Оксфорда, отец современной опытной науки. Имя его должно быть поставлено в истории мышления на втором месте после Аристотеля. Писания его представляют собой непрерывное бичевание невежества. Он указал своему веку на его невежество, и это было необычайно смелым шагом с его стороны. В наши дни всякий может объявить, что глупость мира равняется его напыщенности, что его порядки примитивны и нелепы, а его учения – лишь ребяческая болтовня, не подвергаясь при этом никакой физической опасности. Но средневековые люди, если только не умирали от чумы или от голода и не подвергались избиениям, были страстно убеждены в мудрости и совершенстве своей веры и были расположены весьма жестоко мстить за всякие нападки на нее. Писания Роджера Бэкона были подобны вспышке молнии в глубоком мраке. Он сочетал с нападками на современное ему невежество могучую проповедь необходимости расширения и углубления человеческого познания. В его страстных доводах необходимости опытного познания и собирания фактов оживал дух Аристотеля. «Опыт, опыт и опыт», – таков был припев Роджера Бэкона.
Роджер Бэкон не пощадил даже самого Аристотеля. Он нападал на него потому, что люди, вместо того, чтобы смело глядеть в глаза фактам, сидели в своих кабинетах и корпели над плохими латинскими переводами великого мыслителя; это была единственная польза, которую они от него получали. «Если бы моя воля, – писал он со свойственной ему резкостью, – я бы сжег все книги Аристотеля, ибо изучение их может повести лишь к потере времени, и к заблуждениям и лишь увеличит невежество». Аристотель, вероятно, сочувствовал бы вполне этому взгляду, если бы он мог вернуться к жизни в эпоху, когда его произведения не столько читали, сколько почитали, как святыню, и притом, как показал Роджер Бэкон, в самых отвратительных переводах. Во всех своих творениях Роджер Бэкон, лишь незначительно маскируя свои взгляды, ввиду необходимости сохранить ортодоксальную видимость, – из страха перед тюрьмой или чем-нибудь еще худшим, взывал к человечеству: «Перестаньте подчиняться догматам и авторитетам; глядите на мир!». Он указывал на четыре главных источника невежества: почитание авторитетов, обычаи, мнение невежественной толпы и глупое тщеславие, обусловливающее нашу невосприимчивость. Стоит только преодолеть эти препятствия, и перед человечеством откроется мир неведомого могущества. Возможно построить суда, не нуждающиеся в гребцах, сделать так, чтобы крупные корабли, годные для речного и океанского плавания и управляемые одним человеком, стали передвигаться быстрее, чем под усилиями массы гребцов. Точно так же можно сделать и экипажи, передвигающиеся без помощи упряжного животного («Cum impetus inestimabile[2]), подобно тому, как, по нашим предположениям, были в древности сделаны боевые колесницы, усаженные косами. Возможны также и летательные машины, внутри которых сидел бы человек, орудующий при помощи особого приспособления, приводящего в движение искусственные крылья, рассекающие воздух, подобно птице».
Так писал Роджер Бэкон, но после него должно было пройти более трех столетий, пока, наконец, люди стали делать систематические попытки исследования скрытых источников интереснейшей силы, существование которой он с такой проницательностью прозревал под скучным покровом повседневности. Однако, сарацинский мир дал христианскому не только умственный толчок в лице своих философов и алхимиков; он дал ему также и бумагу. Вряд ли будет слишком смело сказать, что бумага сделала возможным умственное возрождение Европы. Родина бумаги – Китай, где она появляется со II века до Р. X. В 751 году китайцы сделали нападение на арабов-мусульман в Самарканде. Набег этот был отражен и среди взятых в плен китайцев оказалось несколько знатоков бумажного производства, от которых и научились этому искусству. Арабские бумажные рукописи, написанные еще в IX столетии, сохранились и доныне. Производство бумаги проникло в христианский мир либо через Грецию, либо благодаря захвату принадлежащих маврам бумажных фабрик при отвоевании Испании христианами. Однако, испанские христиане, к сожалению, понизили уровень производства. В христианской Европе хорошей бумаги не выделывали до конца XIII века, причем Италия в этом деле вела за собой весь мир. Производство бумаги достигло Германии только в XIV веке, и лишь к концу этого столетия бумагу стали выделывать в достаточном количестве и достаточно дешево, чтобы книгопечатание могло стать действительно важной отраслью производства. После этого естественно и необходимо развилось книгопечатание, самое замечательное из изобретений, и умственная жизнь мира вступила в новый и значительно более интенсивный фазис своего развития. Раньше она представляла собой слабый ручеек, теперь же она разлилась широким потоком, увлекавшим в своем стремлении тысячи, а немного спустя уже десятки тысяч умов. Одним из непосредственных последствий введения книгопечатания было огромное распространение библии. Другим последствием было удешевление учебников. Грамотность стала быстро распространяться. Не только стало значительно больше книг на свете, но книги стало легче читать, а также и понимать. Вместо того, чтобы трудиться над неразборчивым текстом и затем ломать голову над его значением, читатель мог теперь беспрепятственно размышлять во время чтения. С облегчением процесса чтения возросло число читателей. Книга перестала быть богато разукрашенной игрушкой или тайным достоянием схоластика. Начали писать также книги, которые средний человек мог бы свободно читать и рассматривать. Писали уже не по-латыни, а на общепринятом языке. Настоящая история европейской литературы начинается с XIV века. До сих пор мы имели дело только с влиянием сарацин на возрождение Европы. Посмотрим теперь, каковым оказалось влияние монгольских завоеваний. Они чрезвычайно расширяли географический кругозор европейцев и дали новые импульсы их воображению. Во время владычества великого хана между всей Азией и Западной Европой существовали свободные сношения; все пути были временно открыты для всех, и при дворе в Каракоруме появлялись представители всех наций. Установленные религиозной распрей христианства с исламом преграды между Европой и Азией были временно сняты. Папство возлагало большие надежды на обращение монголов в христианство. До того времени их религией было шаманство, примитивная форма язычества. При монгольском дворе папские нунции, буддийские священники из Индии, парижские, итальянские и китайские мастера, византийские и армянские купцы сталкивались с арабскими чиновниками, персидскими и индийскими астрономами и математиками. В истории слишком много говорится о походах монголов и о произведенных ими кровопролитиях и слишком мало – об их любознательности и жажде учиться. Если не в качестве творческого народа, то в качестве проводников знания и научных методов монголы оказали огромное влияние на мировую историю. Все, что можно узнать о таинственной романтической личности Чингисхана или Хубилая, подтверждает то предположение, что они были не менее просвещенными и творческими монархами, чем блестящий, но эгоистичный Александр Македонский или энергичный, но невежественный богослов Карл Великий, потревоживший великие тени прошлого. Одним из интересных посетителей монгольского двора был некий венецианец Марко Поло, впоследствии написавший историю своих странствований. В 1272 году он отправился в Китай вместе с отцом и дядей, уже совершившими однажды это путешествие. Оба старших Поло произвели сильное впечатление на великого хана; они были первыми представителями «латинских народов», которых он видел. Он отпустил их с просьбой прислать ученых и учителей, которые могли бы объяснить ему сущность христианства, а также привезти из Европы различные вещи, возбудившие его любопытство. В путешествии, в котором сопровождал их Марко, старшие Поло вторично посетили монгольский двор. На этот раз все трое Поло направились через Палестину, а не через Крым, как в первом путешествии. При них был золотой ярлык и некоторые директивы великого хана, которые должны были им значительно облегчить путешествие. Великий хан просил их привезти ему немного масла от лампады, горевшей у гроба господня в Иерусалиме, куда они сперва и направились, а затем через Киликию – в Армению. Они зашли так далеко на север потому, что в это время султан египетский совершал набеги на монгольские владения. Из Армении они преследовали через Месопотамию в Ормуз, расположенный на берегу Персидского залива, намереваясь далее ехать морем. В Ормузе они встретились с купцами из Индии. По какой-то причине они не сели на корабль, а вместо этого повернули вновь на север и поехали через Персидские пустыни. Миновавши Балх, они перевалили через Хотам и Лобнор, они добрались до долины Хуанхэ, и далее до Пекина. Там в это время находился великий хан, и они были приняты весьма радушно, Хубилаю особенно понравился Марко. Он был молод и умен, и вполне понятно, что ему всецело удалось овладеть татарским языком. Он получил официальную должность, и его неоднократно посылали с различными поручениями, преимущественно в юго-западные области Китая. Он немало рассказывал о необозримых просторах цветущей и счастливой страны, о прекрасных гостиницах для путешественников по всему пути, о великолепных виноградниках, полях и садах, о многочисленных монастырях буддийских монахов, о производстве шелковых тканей, золотой парчи и тончайшей тафты, о бесконечно ряде городов и селений и о многом другом. Эти рассказы сперва возбудили недоверие, а затем воспламенили воображение европейцев. Он рассказывал о Бирме, о ее великом войске с сотнями боевых слонов, о том, как эти животные были перебиты монгольскими стрелками, а также о завоевании Пегу монголами. Он рассказывал также о Японии, сильно преувеличивая количество добываемого золота в этой стране. В течение 3-х лет Марко управлял городом Йанг-Хоу в сане губернатора, и, вероятно, казался китайскому населению не более чужеземцем, чем какой-нибудь татарин. Возможно, что его посылали в качестве посла в Индию. Китайские летописи упоминают о некоем Поло, принадлежавшем в 1277 году к имперскому совету, что является ценным подтверждением общей правдивости повествования Поло. Опубликование путешествий Марко Поло произвело глубокое впечатление на европейцев. В европейской литературе, в особенности же в европейских романах XV века, нередко встречаются названия, заимствованные из сочинений Марко Поло, как, например, Катай (Северный Китай), Камбулак (Пекин) и т. п.
Путешествиями Марко Поло зачитывался два столетия спустя некий моряк из Генуи по имени Христофор Колумб, которого осенила блестящая идея – отправиться на запад к Китаю в кругосветное плавание. В Севилье хранится экземпляр путешествий Марко Поло с отметками на полях, сделанными рукой Колумба. Целый ряд причин побуждал мысль генуэзца работать в этом направлении. До турецкого завоевания (1453 г.) Константинополь представлял собою нейтральный рынок, место встречи западного мира с восточным, и генуэзцы вели там свободную торговлю. Но «латинские» венецианцы, ожесточенные соперники генуэзцев, поддерживали турок в их борьбе с греками, и после завоевании его турками Константинополь стал враждебен генуэзской торговле. Давно позабытое знание шарообразности Земли постепенно вновь овладевало умами. Неизбежным выводом из этого была мысль добраться западным путем до Китая. Этому способствовали два обстоятельства. Компас был только что изобретен, и мореплавателям уже не приходилось зависеть от ясной погоды и ориентироваться по звездному небу для определения направления пути. Норманны, каталонцы, генуэзцы и португальцы пускались в плавания по Атлантическому океану и доплывали до Мадеры и до Канарских и Азорских островов. Однако, Колумбу пришлось преодолеть немало препятствий, пока, наконец, он достал корабли, необходимые для проверки на деле его идеи. Он посетил один за другим все дворы Европы. Наконец, в Гренаде, только что отвоеванной у мавров, он заручился покровительством Фердинанда и Изабеллы, и смог пуститься в плавание по неведомому океану на трех небольших кораблях. После 2-х месяцев и 9-ти дней плавания он приплыл в страну, которую он принял за Индию, но которая в действительности была новым материком, о существовании которого старый мир даже и не подозревал. Колумб возвратился в Испанию с грузом золота, хлопка, диковинных зверей и птиц и с двумя раскрашенными дикими индейцами, которых должны были окрестить. Назвал он их Индейцами, так как до конца дней своих был убежден в том, что материк, открытый им, был Индией. Лишь по прошествии нескольких лет стали, наконец, понимать, что к владениям человечества прибавился целый новый континент – Америка. Успехи Колумба явились могучим стимулом к дальнейшим заморским плаваниям. В 1497 году португальцы объехали вокруг Африки и добрались до Индии, а в 1515 году португальские корабли появились у Явы. В 1519 году Магеллан, португальский моряк испанской службы, поплыл из Севильи на запад, имея в своем распоряжении 5 кораблей, из которых один, «Виктория», три года спустя, возвратился вверх по реке в Севилью. Это был первый корабль, совершивший кругосветное плавание, Из 260-ти, отплывших в 1519 году из Севильи моряков, уцелел только тридцать один человек. Сам Магеллан был убит на Филиппинских островах.
Печатные книги, новое представление о доступности всей Земли для человека, знакомство с новыми диковинными странами, растениями и животными и удивительными обычаями, заморские открытия, а также открытия в небесах и новые пути в строительстве жизни – весь этот бурный поток впечатлений хлынул в европейское сознание. Греческие классики, похороненные и забытые в течение долгих веков, наконец, воскресли. Их стали поспешно печатать и изучать. Творческие мечты Платона и благородные традиции эпохи республиканской свободы стали влиять на умы. Римское владычество впервые внесло законы и порядок в Западную Европу; оно было восстановлено латинской церковью. Но под владычеством, как языческого, так и католического Рима, дух исследований и новшеств был ограничен и стеснен железной организацией. Теперь же владычество латинского духа приближалось к концу. В промежутке между XIII и XVI столетиями европейские арийцы, благодаря творческому влиянию семитов и монголов и вновь обретенным греческим классикам, порвали с латинскими традициями и поднялись в могучем умственном порыве, чтобы стать во главе интеллектуального и материального движения человечества.
Глава L. Реформация латинской церкви
Всеобщее духовное возрождение не могло не затронуть и латинской церкви. Она утратила свое единство, но то, что в ней уцелело, подверглось глубочайшему обновлению.
В предыдущих главах мы показали, как в XI и XII столетиях церкви чуть было не удалось достигнуть самодержавного владычества над всем христианским миром, и как в течение XIV и XV веков ее духовная и политическая власть постепенно ослабевала. Мы показали, как религиозный пыл народа, на котором прежде основывалось могущество церкви, впоследствии обратился против нее же, благодаря ее высокомерию, суровой централизации и нетерпимости, и далее, – каким образом скептицизм и коварство Фридриха II вызвали у монархов все возрастающий дух независимости и ослушания. Великая схизма привела почти к полному падению религиозного и политического престижа церкви. Новые революционные силы нахлынули на нее со всех сторон.
Учение англичанина Уиклифа широко распространялось по Европе. В 1398 году ученый чех Ян Гус прочел ряд лекций в Пражском университете об этом учении. Вскоре это учение, не ограничиваясь более образованными классами, проникло в массы и вызвало сильный народный энтузиазм. С 1414 года по 1418 г. в Констанце происходил вселенский собор, целью которого было положить конец великой схизме. Гус был приглашен на этот собор и, несмотря на обещание полной неприкосновенности, данное ему императором, был схвачен, предан суду по обвинению в ереси, сожжен заживо (1415 г.). Вместо того, чтобы внести успокоение в умы чехов, эта расправа повела к восстанию гуситов по всей стране, положившему начало религиозным войнам, которыми был отмечен упадок латинского христианства. Папа Мартин V, специально избранный в Констанце главой объединенного христианства, стал проповедовать крестовый поход против этого восстания.
Один за другим были предприняты пять крестовых походов против этого геройского маленького народа, и все они окончились неудачей. Все бездельники и головорезы Европы были брошены в XV столетии в Богемию, подобно тому, как в XIII в. их натравливали на вальденцев и альбигойцев. Но, в противоположность последним, чехи считали нужным оказывать вооруженное сопротивление. Крестоносцы богемского похода даже не приняли боя и бросились врассыпную с поля битвы, лишь заслышали стук гуситских повозок и отдаленное пение солдат (сражение при Домажлицах, 1431 год). В 1436 году новый церковный собор в Базеле кое-как уладил дело с гуситами, причем были сделаны значительные уступки в вопросах, касавшихся латинского богослужения. В XV столетии ужасная чума вызвала большие неурядицы в Европе. В простонародье наблюдался чрезвычайный рост нужды и недовольства, в Англии и во Франции происходили восстания крестьян против помещиков и богачей. После гуситских войн эти крестьянские восстания усилились, особенно в Германии, и приняли религиозный характер. На развитие их оказало значительное влияние изобретение книгопечатания. В середине XV столетия в Голландии и в Рейнских областях книги уже печатались при помощи подвижного шрифта. Оттуда это искусство проникло в Италию и Англию, где в 1477 году Кэкстон открыл в Вестминстере книгопечатню. Непосредственным результатом этого оказалось широкое распространение библии, что весьма способствовало росту критического духа в народе. Новый мир читателей нарождался в Европе, принимая небывалые размеры. Это внезапное обогащение всеобщего сознания новыми, ясными идеями и общедоступными знаниями как раз совпало со смутами и распадением церкви, которая вследствие этого даже не могла защитить себя как следует и была под угрозой нападения со стороны монархов, выжидавших случая вырвать у нее огромные богатства и земли, находившиеся в их государствах.
В Германии все недовольные церковью объединились вокруг личности бывшего монаха, Мартина Лютера (1483–1546 гг.), который в 1517 году стал выступать в Виттенберге на диспутах против различных ортодоксальных доктрин и обрядов. Вначале он, по обычаю схоластиков, вел свои дебаты на латинском языке, но затем он обратился к новому оружию – печатному слову, и стал широко распространять свои взгляды в Германии среди народных масс. Была сделана попытка устранить его, подобно тому, как был устранен Гус, но условия сильно изменились под влиянием прессы; кроме того, у Лютера было слишком много тайных и явных друзей среди германских князей, чтобы его могла постигнуть такая участь. Дело в том, что в эту эпоху завоеваний мысли и упадка веры существовало немало монархов, которым было выгодно, чтобы порвались последние религиозные узы, соединявшие их народ с Римом. Они мечтали стать в своей стране во главе религии, придавши ей более национальный характер. Англия, Шотландия, Швеция, Норвегия, Дания, Северная Германия и Богемия одна за другой отпали от римско-католической церкви, с тем, чтобы никогда более не вернуться к ней. Все эти монархи весьма мало заботились о нравственной и умственной свободе своих подданных. Они готовы были использовать религиозные сомнения и восстания своего народа для укрепления своей позиции против Рима, но вместе с тем они старались наложить узду на народное движение, как только разрыв окончательно завершился и национальная церковь утвердилась под их контролем. Однако, учение Христа обладало особой жизненностью; оно взывало непосредственно к справедливости и человеческому достоинству независимо от рамок законности и повиновения светской или церковной власти. Все эти монархические церкви, отколовшись от Рима, в то же время вызвали к жизни отдельные секты, не допускавшие вмешательства ни папы, ни монарха в свои отношения к богу. Так, например, в Англии и Шотландии возникли многочисленные секты, твердо придерживавшиеся библии и руководившиеся ею в своей жизни и религии. Они отказывались подчиниться государственной церкви. Таковы были английские нон-конформисты, сыгравшие немаловажную роль в XVII и XVIII веках в политической жизни страны. Их яростное неприятие над церковью светской власти привело их в конце концов к казни короля Карла I (1649 г.) после чего в течение одиннадцати лет Англией, ставшей республикой, управляли, к общему благополучию, нон-корформисты.









