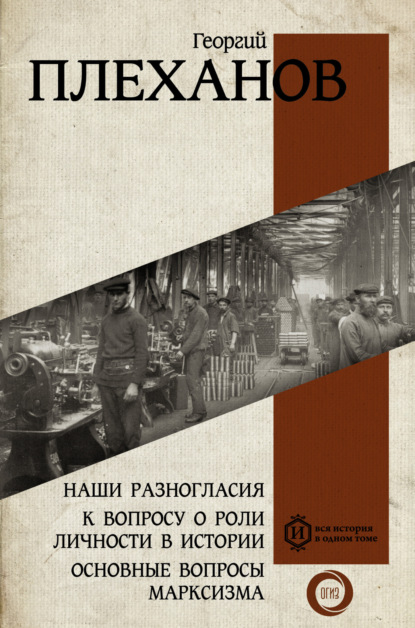По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Наши разногласия. К вопросу о роли личности в истории. Основные вопросы марксизма
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Отсюда ясно, что, несмотря на свое невежество, народ наш стоит гораздо ближе к социализму, чем народы Запада, хотя они и образованнее его».
«Народ наш привык к рабству и повиновению – этого также нельзя оспаривать. Но Вы не должны заключать отсюда, что он доволен своим положением. Он протестует, непрерывно протестует против него. В какой бы форме «и проявлялись эти протесты, в форме ли религиозных сект, называемых расколом, в отказе ли от уплаты податей или в форме восстаний и открытого сопротивления власти – во всяком случае он протестует, и по временам очень энергично»…
«Правда, эти протесты узки и разрозненны. Но, несмотря на это, они в достаточной мере доказывают, что народу невыносимо его положение, что он пользуется каждым случаем, чтобы дать волю накопившемуся в его груди чувству озлобления и ненависти. И поэтому русский народ можно назвать инстинктивным революционером, несмотря на его кажущееся отупение, несмотря на отсутствие у него ясного сознания своих прав»…
«Наша интеллигентная революционная партия немногочисленна, – это также верно. Но зато она не преследует никаких других идеалов, кроме социалистических, а враги ее почти еще бессильнее ее, и это их бессилие идет ей на пользу. Наши высшие сословия не представляют собою никакой силы, – ни экономической (они для этого слишком бедны), ни политической (они слишком тупы и слишком привыкли во всем полагаться на мудрость полиции). Наше духовенство не имеет никакого значения… Наше государство только издали представляется силой. В действительности его сила – кажущаяся, воображаемая. Оно не имеет корней в экономической жизни народа. Оно не воплощает в себе интересов какого-либо сословия. Оно равномерно давит все классы общества и пользуется равномерною ненавистью со стороны их всех. Они терпят государство, переносят его варварский деспотизм с полным равнодушием. Но это терпение, это равнодушие… является продуктом ошибки: общество создало себе иллюзию о силе русского государства и находится под волшебным ее влиянием». Но немного нужно, чтобы рассеять эту иллюзию. «Два-три военных поражения, одновременное восстание крестьян во многих губерниях, открытое восстание в резиденции в мирное время – и ее влияние мгновенно рассеется, и правительство увидит себя одиноким и всеми покинутым»
«Таким образом мы и в этом отношении имеем более шансов, чем Вы (т. е. Запад вообще и Германия в частности). У Вас государство отнюдь не мнимая сила. Оно опирается обеими ногами на капитал; оно воплощает в себе известные экономические интересы. Его поддерживает не только солдатчина и полиция (как у нас), его укрепляет весь строй буржуазных отношений… У нас… наоборот – наша общественная форма обязана своим существованием государству, государству, так сказать, висящему в воздухе, государству, которое не имеет ничего общего с существующим социальным порядком, корни которого кроются в прошедшем, но не в настоящем»[39 - «Offener Brief». S.S. 4–6.].
Такова социально-политическая философия П.Н. Ткачева.
Если бы как-нибудь по ошибке наборщика под вышеприведенными выписками была поставлена ссылка на статью «Чего нам ждать от революции?», то едва ли сам г-н Тихомиров заметил бы эту погрешность: до такой степени копия, появившаяся в свет в апреле 1884 года, похожа на оригинал, вышедший десять лет тому назад. Но, увы, что значит слава первого открытия?! Г. Тихомиров ни единым словом не упоминает о своем учителе! Со своей стороны, автор «Открытого письма г-ну Ф. Энгельсу» не счел нужным сослаться на «Государственность и анархию», вышедшую еще в 1873 году и содержащую ту же самую характеристику русских общественных отношений и те же уверения в том, что русский крестьянин – «коммунист по инстинкту, по традиции». Фр. Энгельс был совершенно прав, говоря в своем ответе Ткачеву, что аргументация этого последнего построена на обычных «бакунистских фразах».
Но к чему же приводит бакунизм, потерявший веру в возможность устранить путем непосредственного влияния «несчастные черты» народного идеала и сосредоточивший свое внимание на том счастливом обстоятельстве, что наше государство «висит в воздухе» и «не имеет ничего общего с существующим социальным порядком», а «осуществление социальной революции не представляет никаких трудностей»? Понятно – к чему. «Если капитал у нас еще в зародыше», и «рабочим приходится бороться лишь с политическою силою» царизма, если народ со своей стороны, «всегда готов» к восстанию, как пушкинский Онегин – к дуэли, то революционная борьба приобретает исключительно «политический» характер. А так как, кроме того, у нас нет возможности «соединить в хорошо организованный, дисциплинированный союз забитую, невежественную массу трудящегося люда»; нет возможности создать рабочую литературу и не было бы даже пользы в ее создании, то выходит, что эту политическую борьбу должны вести вовсе не рабочие. Об этом должна позаботиться та самая «немногочисленная интеллигентская революционная партия», сила которой заключается в ее социалистических идеалах и в бессилии ее врагов. Но этому сильному чужим бессилием меньшинству, как по современным русским условиям, так и по самой сущности ее отношений ко всем прочим общественным силам, – не остается ничего другого, как создавать тайную организацию и подготовлять coup d’еtat[40 - Государственный переворот.] в ожидании благоприятных для решительного удара обстоятельств «военных поражений» России, «одновременных бунтов в нескольких губерниях» или «восстания в резиденции». Другими словами, изверившийся в «прогресс» бакунизм самым прямым путем приводит нас к заговору с целью ниспровержения существующего правительства, захвата власти и организации социалистического общества с помощью этой власти и «прирожденных, традиционных» склонностей русского крестьянства к коммунизму. Все это мы и видели в произведениях П.Н. Ткачева гораздо раньше, чем узрели в статье г-на Тихомирова.
Но для полного знакомства с программой Ткачева, или, как говорил он, той «фракции, к которой принадлежит все, что есть в нашей революционной интеллигентной молодежи смелого, умного и энергичного», – нужно обратиться к другим произведениям редактора «Набата», так как «Открытое письмо» заключает в себе лишь уверения в том, что «современный период (русской) истории самый удобный для совершения социальной революции», да указание на такие «общие черты» программы, как «прямое воззвание к народу», создание крепкой революционной организации и строгой дисциплины. Из брошюры же «Задачи революционной пропаганды в России» мы почерпаем ту оригинальную мысль, что «насильственная революция тогда только и может иметь место, когда меньшинство не хочет ждать, чтобы большинство сознало свои потребности, но когда оно решается, так сказать, навязать ему это сознание». Наконец, в сборнике «критических очерков П.Н. Ткачева», изданных под одним общим заглавием «Анархия мысли», мы, в главе, направленной против программы журнала «Вперед» и брошюры «Русской социально-революционной молодежи», уже прямо встречаемся со следующей альтернативой. «Необходимо выбрать одно из двух: или интеллигенция должна захватить после революции власть в свои руки, или она должна противодействовать, задерживать революцию до той блаженной минуты, когда «народный взрыв» не будет более представлять опасностей, т. е. когда народ усвоит результаты мировой мысли, приобретет недоступные ему знания». Уже из того обстоятельства, что знания признаются «недоступными народу», ясно, куда склоняются симпатии П.Н. Ткачева.
Организация заговора с целью захвата власти становится главною практическою задачею пропаганды газеты, а потом журнала «Набат». Параллельно с этим идет пропаганда террора и возвеличение «так называемого нечаевского заговора» на счет кружков пропагандистов. «Для нас, революционеров, не желающих долее сносить несчастий народа, не могущих долее терпеть своего позорного рабского состояния, для нас, не затуманенных метафизическими бреднями и глубоко убежденных, что русская революция, как и всякая другая революция, не может обойтись без вешания и расстрела жандармов, прокуроров, министров, купцов, попов, словом, не может обойтись без «насильственного переворота», для нас, материалистов-революционеров, весь вопрос сводится к приобретению силы власти, которая теперь направлена против нас». Эти строки, напечатанные в 1878 году[41 - См. журнал «Набат», 1878 год (№и месяц не обозначены), статью «Революционная пропаганда», стр. L.], когда никто не думал еще о создании партии Народной Воли, с достаточною ясностью показывают, где нужно искать источника тех практических идей, пропаганду которых приняла на себя эта партия. Мы думаем поэтому, что редакция «Набата» была по своему права, когда, констатируя в 1879 году «полнейшее фиаско» хождения в народ, она с гордостью прибавляла: «Мы первые указали на неизбежность этого фиаско, мы первые… заклинали молодежь сойти с этого гибельного антиреволюционного пути и снова вернуться к традициям непосредственно революционной деятельности и боевой, централистической революционной организации (т. е. традициям нечаевщины). И наш голос не был голосом вопиющего в пустыне»… «Боевая организация революционных сил, дезорганизации и терроризация правительственной власти – таковы были с самого начала основные требования нашей программы. И в настоящее время эти требования стали, наконец, осуществляться на практике». Увлекшись террористической деятельностью, редакция заявляет даже, что «в настоящее время наша единственная задача – терроризировать и дезорганизовать правительственную власть»[42 - «Набат», 1879 г., №№ 3, 4, 5; стр. 2–3.].
7. Результаты
Ниже мы увидим, какое значение имеют сделанные мною выписки в «опросе о «наших разногласиях». Теперь же взглянем на изложенные нами программы с чисто исторической точки зрения и спросим себя – насколько удовлетворительно был ими поставлен и решен вопрос о состоянии русской общины и о способности русского народа к сознательной борьбе за свое экономическое освобождение?
Мы видели, что как М.А. Бакунин, так и П.Н. Ткачев очень много говорили о коммунистических инстинктах русского крестьянства. Ссылки на эти инстинкты составляют исходную точку их социально-политических рассуждений, главное основание их веры в возможность социалистической революции в России. Но ни автор «Государственности и анархии», ни редактор «Набата» нимало не задумывались, по-видимому, над вопросом о том, потому ли существует община, что народ наш «проникнут принципами общинного землевладения», или потому он «проникнут» этими «принципами», т. е. имеет привычку к общине, что живет в условиях коллективного владения землей? Если бы они внимательнее отнеслись к этому вопросу, ответ на который не может быть сомнительным, то им пришлось бы перенести центр тяжести своей аргументации из области рассуждений о народных «инстинктах» и идеалах в сферу исследований о народном хозяйстве. Тогда им пришлось бы обратить внимание на историю землевладения и вообще права собственности у первобытных народов, на возникновение и постепенный рост индивидуализма в общинах охотничьих, кочевых и земледельческих племен, на социально-политическое влияние этого нового «принципа», становящегося мало-помалу господствующим. Применяя результаты такого рода исследований к России, им пришлось бы сделать оценку тех разлагающих общину условий, значение которых в особенности возросло со времени уничтожения крепостного права. Эта оценка логически привела бы их к попытке определить силу и значение индивидуалистического принципа в хозяйстве современной сельской общины в России. Затем, так как значение этого принципа – под влиянием враждебных коллективизму условий, – постоянно возрастает, то им нужно было бы узнать величину ускорения, приобретаемого индивидуализмом в ходе его вторжения в право и хозяйство общинников. Определив, с возможною в таких случаях точностью, величину этого ускорения, они должны были бы перейти к изучению свойств и развития той силы, с помощью которой они думали не только предупредить торжество индивидуализма и не только восстановить сельскую общину в ее первобытном виде, но и придать ей новую, высшую форму. При этом возник бы очень важный, как мы видели, вопрос о том, явится ли эта сила продуктом внутренней жизни общины или результатом исторического развития высших сословий[43 - Несомненная опечатка, хотя сам Плеханов не исправил ее в новом издании. Следует – внешних условий. Д.Р.]. Во втором из предположенных случаев интересующая нас сила оказалась бы чисто внешнею силою по отношению к общине, и тогда им прежде всего нужно было бы спросить себя, достаточно ли одних внешних влияний для переустройства экономической и социально-политической жизни данного класса? Покончив с этим вопросом, пришлось бы немедленно считаться с другим, а именно – где должно искать точку приложения этой силы, в сфере ли условий жизни или в области привычек мысли нашего крестьянства? В заключение им нужно было бы доказать, что сила сторонников социализма увеличивается с большей быстротой, чем совершается рост индивидуализма в русской экономической жизни. Только сделав это обстоятельство по крайней мере вероятным, они могли бы доказать вероятность той социальной революции, которая, по их мнению, не могла встретить в России «никаких» затруднений.
В каждом из вышеперечисленных случаев им пришлось бы иметь дело не со статикой, а с динамикой наших общественных отношений, «брать» народ не таким, «каков он есть», а таким, каким он становится, рассматривать не неподвижную картину, а совершающийся по известным законам процесс русской жизни. Им пришлось бы употребить в дело то самое орудие диалектики, которое уже употреблялось Чернышевским для изучения вопроса об общине в самом абстрактном его виде.
К сожалению, ни Бакунин, ни Ткачев не сумели, как мы видели, подойти с этой, наиболее важной, стороны к вопросу о шансах социальной революции в России. Они довольствовались тем убеждением, что народ наш «коммунист по инстинкту, по традиции», и если Бакунин обращал должное внимание на слабые стороны народных «традиций» и народного инстинкта, если Ткачев видел, что устранить такого рода слабые стороны можно лишь путем учреждений, а не логических доводов, то все-таки ни тот, ни другой из названных писателей не довели дело анализа до конца. Взывая к нашей интеллигенции, они ожидали социальных чудес от ее деятельности и полагали, что ее преданность заменит народную инициативу, ее революционная энергия займет место внутреннего стремления русской общественной жизни к социалистической революции. Народное хозяйство, уклад жизни и привычки мысли нашего крестьянства рассматривались ими именно как неподвижная картина, как законченное целое, подлежащее лишь незначительным видоизменениям вплоть до самой социальной революции. В представлении тех самых писателей, которые, конечно, не отказались бы признать современные им формы народной жизни результатом исторического развития, – история как бы «останавливала свое течение». От времени выхода в свет «Государственности и анархии» или «Открытого письма к Фр. Энгельсу» вплоть до первого или «второго дня после революции», сельская община должна была, по их мнению, остаться в своем нынешнем виде, от которого так недалек будто бы переход к социализму. Весь вопрос был в том, чтобы поскорее приняться за дело и идти по надлежащей дороге. «Мы не допускаем никаких отсрочек, никакого промедления… Мы не можем и не хотим ждать… Пусть каждый соберет поскорее свои пожитки и спешит отправиться в путь!» – писал редактор «Набата». И хотя по вопросу о направлении этого пути между Бакуниным и Ткачевым были коренные разногласия, но, во всяком случае, каждый из них был уверен, что если молодежь пойдет по указанному им пути, то успеет еще застать общину в состоянии желательной прочности. Хотя «каждый день приносит нам новых врагов, создает новые враждебные нам общественные формы», но эти новые формы не изменяют взаимного отношения факторов русской общественной жизни. Буржуазия продолжает отсутствовать, государство продолжает «висеть в воздухе». Погромче ударивши «в набат», поэнергичнее взявшись за революционную работу, мы успеем еще спасти «коммунистические инстинкты» русского народа и, опираясь на его привязанность к «принципам общинного землевладения», сумеем совершить социалистическую революцию. Так рассуждал П.Н. Ткачев, так же или почти так же рассуждал и автор «Государственности и анархии».
Наша молодежь читала произведения обоих писателей и, поделившись на фракции, действительно спешила взяться за дело. С первого взгляда может показаться странным, каким образом ткачевская или бакунинская программа могла найти адептов в той самой интеллигентной среде, которая воспитывалась на сочинениях Н.Г. Чернышевского и уже по одному тому должна была выработать привычку к более строгому мышлению. Но дело – в сущности – просто и объясняется отчасти влиянием того же Чернышевского.
Гегель не даром отводил в своей философии такое важное место вопросу о методе, и не даром также те из западноевропейских социалистов, которые с гордостью «ведут свою родословную», между прочим, «от Гегеля и Канта», придают гораздо большее значение методу исследования общественных явлений, чем данным его результатам[44 - «Мы далеко не так нуждаемся в голых результатах, как в изучении, – говорит Фр. Энгельс; – мы знаем уже со времени Гегеля, что без ведущего к ним развития – результаты не имеют никакого значения; они хуже, чем бесполезны, если на них прекращается исследование, если они не становятся посылками для дальнейшего развития».]. Ошибка в результатах непременно будет замечена и исправлена при дальнейшем применении правильного метода, между тем как ошибочный метод, наоборот, лишь в редких частных случаях может дать результаты, не противоречащие той или другой частной истине. Но серьезное отношение к методологическим вопросам возможно лишь в обществе, получившем серьезное философское образование. Русское же общество никогда не могло похвастаться таким образованием. Недостаток философского развития с особенною силою сказался у нас в шестидесятых годах, когда наши «мыслящие реалисты», создавши культ естественных наук, открыли жестокое гонение на философскую «метафизику». Под влиянием этой антифилософской пропаганды, последователи Н.Г. Чернышевского не могли усвоить себе приемы его диалектического мышления, а сосредоточивали свое внимание лишь на результатах его исследований. В результате же этих исследований являлась, как мы знаем, уверенность в возможности непосредственного перехода нашей общины в высшую, коммунистическую форму общежития. Это убеждение страдало односторонностью уже в силу своей абстрактности, и ученики, оставшиеся верными духу, а не букве сочинений Чернышевского, конечно, не замедлили бы перейти, как я выразился выше, от алгебры к арифметике, от общих отвлеченных рассуждений о возможных переходах одних социальных форм в другие к подробному изучению вопроса о современном состоянии и вероятной будущей судьбе русской общины в частности. Так называемый «русский» социализм был бы поставлен, таким образом, на совершенно твердую почву. К сожалению, наша революционная молодежь даже и не подозревала, что у ее учителя был какой-то особенный метод мышления. Успокоившись на результатах его исследований, она видела его единомышленников во всех писателях, отстаивавших принцип общинного землевладения, и между тем как сам автор «Критики философских предубеждений» никогда не мог сойтись, например, со Щаповым[45 - См. книгу Аристова: «А.П. Щапов, жизнь и сочинения». С.-Петербург. стр. 89–92.], наша молодежь видела в исторических трудах последнего лишь новую иллюстрацию и новые доводы в пользу мнений своего учителя. Тем менее могла она подвергать строгой критике новые революционные учения. П.Н. Ткачев и М.A. Бакунин казались ей людьми совершенно одного направления с Н.Г. Чернышевским. Ученики Гегеля не оставили камня на камне в его системе, строго держась того самого метода, который завещал им великий мыслитель. Они держались духа, а не буквы его системы. Последователи Н.Г. Чернышевского не решались даже подумать о критическом отношении к мнению своего учителя. Строго держась каждой буквы его писаний, они утратили всякое понятие об их духе. Вследствие этого они не сумели сохранить в чистом виде даже результаты исследований Чернышевского и в смеси их с славянофильскими тенденциями образовали ту своеобразную теоретическую амальгаму, в которой выросло потом наше народничество.
Таким образом, предшествующая социалистическая литература завещала нам несколько (не нашедших подражателей) попыток применения диалектического метода к решению важнейших вопросов русской общественной жизни и несколько социалистических программ, из которых одна рекомендовала социалистическую пропаганду, считая русское крестьянство столь же восприимчивым к ней, как и западноевропейский пролетариат; другая – настаивала на организации всенародного бунта, а третья, не считая возможной ни пропаганду, ни организацию, указывала на захват власти революционной партией, как на исходный пункт русской социалистической революции.
Теоретическая постановка революционного вопроса не только не подвинулась вперед со времени Чернышевского, но во многих отношениях отступила назад, к полуславянофильским воззрениям Герцена. Русская революционная интеллигенция начала семидесятых годов не прибавила ни одного серьезного аргумента в пользу отрицательного решения поставленного еще Герценом вопроса о том, «должна ли Россия пройти всеми фазами европейского развития?».
Глава I. Некоторые исторические справки
1. Русский бланкизм
Теперь прошло уже десять лет со времени появления важнейших из программ семидесятых годов. Десять лет усилий, борьбы и тяжелых, иногда, разочарований показали нашей молодежи, что организация революционного движения в крестьянстве невозможна при современных русских условиях. Бакунизм и народничество, как революционные учения, отжили свой век и находят теперь радушный прием лишь в консервативно-демократическом литературном лагере. Им предстоит или совершенно утратить свои отличительные черты и слиться с новыми, более плодотворными революционными течениями, или застыть в своем старом виде и служить опорой для политической и социальной реакции. Наши пропагандисты старой пробы также сошли теперь со сцены. Не то с теориями П.Н. Ткачева. Хотя в течение целых десяти лет «каждый день приносил нам новых врагов, создавал новые, враждебные нам общественные факторы», хотя социальная революция «встретила» за это время некоторые немаловажные «препятствия», русский бланкизм возвышает теперь свой голос с особенной силой, и, по-прежнему уверенный в том, что «современный исторический период особенно благоприятен для совершения социальной революции», он по-прежнему обвиняет всех «несогласномыслящих» в умеренности и аккуратности, повторяя на новый лад свою старую погудку: «теперь или очень не скоро, быть может, никогда! мы не имеем права ждать, пусть каждый соберет свои пожитки и спешит отправиться в путь», и так далее, и так далее. С этим-то окрепшим и, если можно так выразиться, помолодевшим ткачевизмом и приходится иметь дело всякому, кто хотел бы писать о «разногласиях», существующих в настоящее время в русской революционной среде. С ним тем более придется считаться при исследовании вопроса о «судьбе русского капитализма».
Я уже не один раз говорил, что статья г-на Тихомирова «Чего нам ждать от революции?» представляет собою лишь новое, дополненное, хотя в то же время во многих отношениях ухудшенное издание социально-политических воззрений П.Н. Ткачева. Если я не ошибся в распознавании характеристических черт русского бланкизма, то литературная деятельность партии Народной Воли сводится к повторению на разные лады ткачевских учений. Разница лишь в том, что для Ткачева «переживаемый нами момент» относился к началу семидесятых годов, а для публицистов партии Народной Воли он совпадает с концом того же и началом следующего десятилетия. При полном отсутствии того, что немцы называют «историческим смыслом», русский бланкизм с большою легкостью переносит и будет переносить это понятие об особенно благоприятном для социальной революции «моменте» с одного десятилетия на другое. Оказавшись лжепророком в восьмидесятых годах, он с достойным лучшей участи упорством возобновит свои пророчества через десять, через двадцать, через тридцать лет и будет возобновлять их вплоть до того времени, когда рабочий класс поймет, наконец, условия своего социального освобождения и будет встречать его проповедь самым гомерическим хохотам. Для пропаганды бланкизма благоприятен каждый исторический момент, кроме момента, действительно благоприятного для социалистической революции.
Но пора точнее определить употребляемые мною выражения. Что такое бланкизм вообще? Что такое русский бланкизм?
П.Л. Лавров надеется, как мы видели, что «большинство членов группы «Освобождение труда» – «может быть не сегодня-завтра в рядах «Народной Воли». Он утверждает, что «сам г-н Плеханов совершил уже достаточно значительную эволюцию в своих политико-социальных убеждениях, чтобы мы имели основание надеяться на новые шаги с его стороны в этом же направлении». Если партия Народной Воли стоит, поскольку можно судить об этом по ее литературным произведениям, на точке зрения бланкизма, то выходит, что и моя «эволюция» совершается «в этом же направлении». Проповедуемый мною в настоящее время марксизм представляет собою, следовательно, лишь чистилище, через которое должна пройти моя социалистическая душа для окончательного успокоения в лоне бланкизма. Так ли это? Будет ли такого рода «эволюция» прогрессивной? Как представляется этот вопрос с точки зрения современного научного социализма?
«Бланки – прежде всего политический революционер, – читаем мы в одной статье Энгельса, – социалист лишь по своим чувствам, симпатизирующий народу в его страданиях, но не имеющий своей особой социалистической теории и не предлагающий никаких определенных мер социального переустройства. В своей политической деятельности он был, главным образом, так называемым «человеком дела», убежденным в том, что небольшое число хорошо организованных людей, выбрав подходящий момент и произведя революционную попытку, может увлечь народную массу одним-двумя успехами и совершить таким образом победоносную революцию. В царствование Луи-Филиппа он мог организовать это ядро, конечно, лишь в виде тайного общества, и тогда произошло то, что всегда происходит при заговоре. Составляющие его люди, утомившись вечной сдержанностью и напрасными обещаниями, что дело скоро дойдет до решительного удара, потеряли, наконец, всякое терпение, перестали повиноваться, и тогда оставалось одно из двух: или дать распасться заговору, или начинать революционную попытку без всякого внешнего повода. Такая попытка и была сделана (12 мая 1839 г.), и была подавлена в самом начале. Впрочем этот заговор Бланки был единственный, который не был открыт полицией.
«Из того, что Бланки всякую революцию представлял себе в виде Handstreich[46 - Вспышки.] небольшого революционного меньшинства, сама собою следует необходимость революционной диктатуры после удачного переворота; конечно, диктатуры не целого революционного класса, пролетариата, но небольшого числа тех, которые совершили Handstreich и которые сами еще ранее того подчинялись диктатуре одного или немногих избранных.
«Читатель видит, – продолжает Энгельс, – что Бланки есть революционер старого поколения. Подобные представления о ходе революционных событий слишком уже устарели для немецкой рабочей партии, да и во Франции могут встретить сочувствие лишь со стороны наименее зрелых или наименее терпеливых рабочих».
Мы видим, таким образом, что социалисты новейшей, научной школы смотрят на бланкизм, как на устаревшую уже точку зрения. Переход из марксизма в бланкизм, конечно, не невозможен, – чего не бывает на свете? – но он ни в каком случае не будет признан ни одним из марксистов прогрессом в «политико-социальных убеждениях» кого-либо из их единомышленников. Только с точки зрения бланкиста такая «эволюция» может быть признана прогрессивной. И если почтенный редактор Вестника Народной Воли не изменил самым коренным образом своих воззрений на социализм школы Маркса, то его пророчество относительно группы «Освобождение труда» должно привести всякого беспристрастного читателя в совершенное недоумение.
Мы видим, кроме того, из приведенных слов Энгельса, что ткачевское понимание «насильственной революции», как чего-то «навязанного» меньшинством большинству, есть не что иное, как бланкизм, который можно было бы назвать самым чистопробным, если бы редактор «Набата» не вздумал доказывать, что в России социализм не нужно даже навязывать большинству, коммунистическому «по инстинкту, по традиции».
Отличительной чертою русской разновидности бланкизма является, таким образом, лишь заимствованная у Бакунина идеализация русского крестьянства. Перейдем теперь к воззрениям г-на Тихомирова и посмотрим, подходят ли они под это определение или представляют собою новую разновидность «русского социализма».
2. Л. Тихомиров
Я утверждаю, что в них нет решительно ничего нового, кроме нескольких исторических, логических и статистических ошибок.
Эти ошибки, действительно, представляют собою нечто новое, оригинальное, характеристичное лишь для миросозерцания г-на Тихомирова. Ни бланкизм вообще, ни русский бланкизм в частности не играли никакой роли в их возникновении и в их своеобразной «эволюции».
Появление их вызвано причиною чисто отрицательного свойства: незнанием, которое вообще играет довольно видную роль в генезисе социально-политических понятий нашей интеллигенции, а в статье г-на Тихомирова достигает совсем уже нескромных размеров.
Читателю нетрудно будет проверить справедливость нашего отзыва, если он потрудится вместе с нами над распутыванием скомканной и во многих местах оборванной нити «самобытных» рассуждений нашего автора.
Начнем с истории революционных идей в России и на Западе.
«Еще немного лет назад, – говорит г-н Тихомиров, – социалисты, исходя из анализа общественных отношений, сделанного их учителями в капиталистических странах Европы, признавали политическую деятельность скорее вредною в интересах собственно народной массы, так как полагали, что конституция будет у нас орудием организации буржуазии, каким является в Европе. На основании этих соображений в среде наших социалистов можно было даже встретить мнение, что из двух зол – самодержавный царь для народа все-таки лучше, «ежели царь конституционный. Другое направление, так называемое либеральное, имело противоположный характер» и т. д.[47 - «Вестник Народной Воли», № 2, стр. 231.]).
Русские социалисты «признавали политическую деятельность скорее вредною… исходя из анализа…, сделанного их учителями в капиталистических странах Запада». О каком «анализе» говорит г-н Тихомиров? Каких учителей имеет он в виду? С кого он «портреты пишет, где разговоры эти слышит»? Известно, что западноевропейская социалистическая мысль, «исходя из анализа…, сделанного в капиталистических странах Европы», представляла и до сих пор представляет «два типа отношений к вопросу о политической деятельности». Последователи Прудона проповедуют политическое воздержание и советуют следовать ему вплоть «до другого дня после революции». Для них «политическая революция – цель, экономическая революция – средство». Поэтому они хотят начинать с экономического переворота, полагая, что при современных условиях политическая деятельность «скорее вредна в интересах собственно народной массы», и что конституция является лишь «орудием организации буржуазии». Другое направление «имело противоположный характер». Уже «Deutsch-Franz?sische Jahrb?cher», вышедшие в Париже в 1844 году, наметили в общих чертах политическую задачу рабочего класса. В 1847 году Маркс писал в своей «Mis?re de la philosophie»: «Не говорите, что социальное движение исключает движение политическое. Никогда не бывает политического движения, которое не было бы в то же время и социальным. Только при таком порядке вещей, при котором не будет классов и антагонизма классов, социальные эволюции перестанут быть политическими революциями[48 - «Mis?re de la philosophie», стр. 177–178.]. В «Манифесте Коммунистической партии» Маркс и Энгельс опять возвращаются к тому же вопросу, доказывают, что «всякая классовая борьба есть борьба политическая», и самым едким образом смеются над «теми истинными социалистами», по мнению которых – как и по мнению г. Тихомирова – конституция «является в Европе» лишь «орудием организации буржуазии». По мнению авторов «Манифеста», социализм, выступавший против освободительного движения буржуазии, «утрачивал свою педантическую невинность» и становился орудием политической и социальной реакции. Та же самая мысль повторялась затем много раз в других произведениях как самих авторов Манифеста, так и их последователей. Можно сказать, что почти каждый номер каждой социал-демократической газеты каждой европейской страны воспроизводит эту мысль в том или другом виде. Карл Маркс и марксисты сделали все, чтобы выяснить свои социально-политические взгляды и показать неосновательность прудонистской «программы».
И после такой-то блестящей литературной деятельности, деятельности, открывающей собою новую эпоху в истории социалистической мысли «Европы», мы слышим, что русские социалисты отрицали целесообразность политической борьбы лишь потому, что «исходили из анализа, сделанного их учителями в капиталистических странах Запада». Можно ли серьезно говорить теперь о каком-нибудь другом «анализе общественных отношений» Западной Европы, кроме анализа, заключающегося в сочинениях Маркса и Энгельса? Это уместно было бы лишь в историческом сочинении, трактующем об ошибках и односторонностях предшественников Маркса. Но г-н Тихомиров или совсем незнаком с литературой марксизма, или понял ее так же, как г-н Иванюков, «банкротство» которого было возвещено и отчасти доказано в первой книжке «Вестника». Русские социалисты говорили о вреде политической деятельности не потому, что они вообще «исходили из анализа общественных отношений» Западной Европы, а потому, что они исходили из ошибочного мелкобуржуазного «анализа» Прудона. Но все ли они были прудонистами? Все ли они придерживались учения Бакунина, этого, так сказать, реформатора прудонизма? Кому же не известно, что далеко не все! П.Н. Ткачев точно так же, как и решительно все западноевропейские бланкисты, исходя, впрочем, не из «анализа, сделанного в капиталистических странах Европы», а из традиций французского якобинства, жесточайшим образом нападали на принцип «политического воздержания». Разве П.Н. Ткачев не писал именно «еще много лет тому назад»? Разве его мнения не должны быть занесены в историю русской революционной мысли? Г-н Тихомиров сделал бы очень рискованный шаг, решившись ответить на последний вопрос утвердительно: а что если его собственная философия действительно окажется лишь новым изданием философии Ткачева? Ведь сравнение очень легко сделать каждому читателю.
Но одни ли бакунисты и бланкисты существовали «еще немного лет тому назад» в русском революционном движении? Не было ли других направлений? Не было ли писателей, которые знали, что конституция «является в Европе»… «орудием организации» не только буржуазии, но и еще другого класса, интересов которого социалисты не могут игнорировать, не изменяя своему знамени? Мне кажется, что – были, и были именно в лагере противников Ткачева, который, восставая против той мысли, что политическая деятельность «скорее вредна в интересах собственно народной массы», требовал, однако, или всего или ничего, или захвата власти социалистами или политического застоя России. Когда на этом основании он вздумал припугнуть русских социалистов призраком капитализма и буржуазной конституции, то вот что ответил ему один известный русский писатель, обращаясь к нашей «социально-революционной молодежи»: «Вам говорят, что революция необходима для России теперь или она не осуществится никогда. Вам рисуют картину развивающейся у нас буржуазии и говорят вам, что с ее развитием борьба станет труднее, что революция будет невозможна. Очень плохо думает автор о вашей сообразительности, если думает, что вы поддадитесь на его аргументы»… «Какое основание думать, что борьба народа с буржуазией в России была бы немыслима, если бы, действительно, в России установились формы общественной жизни, подобные формам заграничной? Разве не развитие буржуазии, именно, вызвало пролетариат к борьбе? Разве не во всех странах Европы раздаются громко призывы к близкой социальной революции? Разве не сознает буржуазия опасность, которая грозит ей от рабочих и все приближается?.. Наша молодежь вовсе не так отрезана от мира, чтобы вовсе не знать этого положения дел, и люди, желающие уверить ее, что господство буржуазии было бы непоколебимо у нас, чересчур рассчитывают на ее недостаток знания, рисуя ей фантастическую картину Европы».
Ясно, что автор этих строк никоим образом не считает конституцию «орудием организации» одной только «буржуазии», каким она «является в Европе» по словам г-на Тихомирова. Прав или неправ этот автор – пусть г-н Тихомиров судит, как хочет, но нельзя было не упомянуть о нем, говоря о «типах отношений» нашей интеллигентной мысли» к вопросу о политической деятельности. Если цитируемый нами автор – нынешний соредактор г-на Тихомирова, П.Л. Лавров[49 - См. его брошюру «Русской социально-революционной молодежи», стр. 22–24.] – и не признавал целесообразности политической борьбы в России, то уж ни в каком случае не потому, что «исходил» из бакунистского анализа «общественных отношений в капиталистических странах Европы». Со стороны г-на Тихомирова совершенно непростительно такое невнимание к литературной деятельности его уважаемого товарища.
Впрочем, будем беспристрастны, постараемся указать смягчающие его вину обстоятельства. Чем объясняется это невнимание? Почему г-н Тихомиров заносит всех русских социалистов недавнего прошлого в список бакунистов и умалчивает о литературной деятельности П.Л. Лаврова, забывает о Ткачеве уже теперь, когда «башмаков еще не износили» контрабандисты, доставлявшие «Набат» в Россию? По очень простой причине. «Ничто не ново под луною», – утверждают скептики. И если эту мысль нельзя признать безусловно верною, то несомненно все-таки, что во многих программах «русского социализма» решительно «ничто не ново». А между тем сторонникам этих программ очень приятно заявить, что их направление было первым «гласным проявлением» такого-то и такого-то «сознаниям. Чтобы доставить себе подобное удовольствие, остается лишь кое-что позабыть в истории русского революционного движения и кое-что прибавить к ней от себя. Тогда будет ясно, что «наша интеллигентная мысль» представляла собою какую-то заблудшую овцу, пока не появилась данная программа; но с тех пор как авторы этой программы произнесли свое «да будет свет» – начался «величественный восход солнца», как выражается Гегель об эпохе французской революции. Надлежащая точка зрения была найдена, заблуждения были рассеяны, истина – открыта. Удивительно ли, что люди, которым приятный самообман дороже «тьмы горьких истин», соблазняются такого рода перспективой и, забывая о своих предшественниках и современниках, приписывают своей «партии» открытие таких приемов борьбы, которые часто не были не только открыты, но даже поняты ею правильным образом?
Г-н Тихомиров увлекся именно такими шаблонными приемами исторического исследования. Ему хотелось показать, что хотя «в общей массе русская революционная интеллигенция», вопреки знаменитому «анализу», и «не могла отрешиться от борьбы против политического гнета», но все это, однако, «делалось только невольно и само собой. Идея действительной равноправности политического и экономического элементов в партионной программе – нашла себе ясное и громкое признание только с появлением Народовольства»[50 - «В.Н.В.», № 2, стр. 232.] (которому наш автор бьет челом и большою буквой). Чтобы доказать свое положение, г-н Тихомиров и приписал всем русским социалистам взгляды, разделявшиеся только бакунистами. Так как эти последние считали политическую деятельность «скорее вредною», а народовольцы признали ее скорее полезною, то ясно, что честь первого открытия пользы политической деятельности принадлежит «народовольству». Упоминать о Ткачеве было неудобно, потому что тогда обнаружилось бы, что он проповедовал именно того рода «равноправность политического и экономического элементов в партионной программе», которая «нашла ясное и громкое признанье» будто бы «только с появлением народовольства». Упоминать о литературных произведениях своего соредактора г-н Тихомиров также не нашел «своевременным», так как для их критики и оценки пришлось бы стать на точку зрения, совершенно непривычную для человека, до сих пор воображающего, что нет другого «анализа общественных отношений» Западной Европы, кроме анализа, «сделанного» Прудоном и прудонистами, Бакуниным и бакунистами.
Г-н Тихомиров «сделал» для возвеличения своей партии все возможное и прихватил даже немножко невозможного. Он решился, например, утверждать, что «бывшие основатели Черного Передела» принадлежали когда-то к числу «самых ярых противников конституции». А между тем, если бы он руководствовался в своих исторических изысканиях стремлением к истине, а не интересами «партионной политики», то он не забыл бы, что в первом же номере «Черного Передела», в «Письме к бывшим товарищам», высказывается следующий взгляд на конституцию, далеко не соответствующий его представлению «о бывших основателях» названного органа: «Не подумайте, пожалуйста, товарищи, что я вообще против конституции, против политической свободы, – говорит автор этого письма. – Я слишком уважаю человеческую личность, чтобы быть против политической свободы… Говорить, что идея политической свободы для народа вещь непонятная, ненужная – не резон. Она (т. е. политическая свобода) для него такая же необходимая потребность, как и для интеллигентного. Разница в том, что эта потребность у народа срастается с другими, более насущными, основными потребностями экономического свойства. Эти-то последние должна принять в резон каждая социально-революционная партия, если она желает, чтобы политическая свобода была вполне обеспечена и гарантирована от узурпации и искажений враждебных ей элементов».
В этих строках есть кое-какие неточности в выражениях, неправильности в определении понятий. Но заключить из них, что «основатели Черного Передела» были «противниками конституции», да еще противниками «самыми ярыми» – может лишь человек, или окончательно распростившийся с логикой, или сознательно игнорирующий факты в интересах своей «партии», или, наконец, совсем не знающий этих фактов, т. е. не знающий той самой истории революционных идей в России, о которой он трактует «с ученым видом знатока».
Но, быть может, основатели «Черного Передела» изменили свои взгляды на конституцию впоследствии? Посмотрим. Под редакцией этих «основателей» вышло два номера названного органа. Мы знаем уже, какие взгляды на политическую свободу заключаются в первом номере; что же находим мы во втором?
«Конечно, не нам, отрицающим всякое подчинение человека человеку, оплакивать падение абсолютизма в России; не нам, которым борьба с существующим режимом стоила таких страшных усилий и стольких тяжелых потерь – желать его продолжения, – читаем мы в передовой статье этого номера. – Мы знаем цену политической свободы и можем пожалеть лишь о том, что и русская конституция отведет ей недостаточно широкое место. Мы приветствуем всякую борьбу за права человека, и чем энергичнее ведется эта борьба, тем более мы ей сочувствуем… Но, кроме выгод, которые, несомненно, принесет с собою политическая свобода, кроме задач ее завоевания, – есть другие выгоды и задачи; и забывать о них невозможно именно в настоящее время, когда общественные отношения так заострились и когда поэтому нужно быть готовым ко всему»[51 - Эта передовая статья была написана Плехановым. Ср. Собр. соч., том первый, стр. 125. Д.Р.].
Таким ли языком говорят «самые ярые противники конституции»?
В программе «Черного Передела» были, конечно, весьма существенные ошибки. Их было в ней не меньше, чем в программе партии Народной Воли. Но с успехом критиковать эти ошибки можно только с точки зрения научного социализма, а вовсе не с точки зрения «народовольских» публицистов. Эти последние страдают тем же самым недостатком, каким страдали когда-то «основатели Черного Передела» – именно неумением критически отнестись к социально-политическим формам нашей народной жизни. Люди, мирящиеся с идеализацией этих форм и строящие на ней свои практические планы, обнаруживают более последовательности, умозаключая к программе «Черного Передела», чем подписываясь под программой партии Народной Воли.