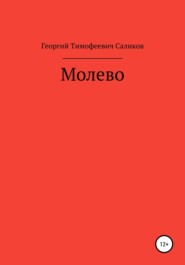По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Незаконно живущий
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мимо пролетела ангельская стайка. Никто не обратил внимания на ангела-отступника. Тот взглянул в сторону стайки, и один из тамошних ангелов, случайно поймав его взгляд, зажмурился и отвернулся.
«Наверно, успели донести на меня, – шёпотом проговорил дерзкий ангел, – впрочем, и до того не питали мои одноплеменники особой приветливости ко мне».
И подумал: «Что, если пойти в приёмную Начальства»? А цель сего мероприятия выдалась весьма странной и неясной. Сдаваться на милость или наказание? Или ответственно выпросить достойную работёнку по специальности, в связи с уже случившимся фактом?
ГЛАВА 2.
Ведь это лишь кажется, будто всё случаемое в жизни, куда-то ушло. В прошлое? А оно чем представляется? Резервуаром? Автору сих строк понравилось, когда Василий Аксёнов в своём романе «Редкие земли», перечисляя значения Атлантического океана, остановился на слове «резервуар». Ёмкое название. В нашем же подобном поиске значений некого Прошлого, допустимо остановиться на слове как раз «океан». Весь, конечно. Мировой. И без берегов. Оно не исчезает и не накапливается, но участвует во всеобщем круговороте жизни. Отдаёт от себя пар для будущего и принимает в себя потоки настоящего.
Или оно выглядит иначе. Ты идёшь себе да идёшь, собирая подкидываемые тебе камешки событий. А былое никуда от тебя не уходит. Истекшая жизнь просто будто позади тебя. Позади, прямо за спиной. Ты ли её несёшь, сама ли она способна сопутствовать тебе, – не суть. Обернёшься без причины, так, оглянешься, и, – ох! Прошлое глядит на тебя и приветственно улыбается. Живое, звучное, яркое, свежее. Да, свежее. Будто мгновение назад произведённое на свет Божий. И жгучее переживание охватит тебя. Не исчезает минувшее, и никуда не удаляется. Оно действительно лишь позади тебя. В обычном укладе жизни своей ты знаешь о нём, но не видишь. А оглянулся, высунул голову из окошка своего уклада, встретился с прошлым глаза в глаза, и поразился увиденным.
Предстала непонятность: Что удерживает Прошлое? Память? Или что иное? Вопрос не простотакошный. Если память, тогда среди чего мы станем искать её наиболее выпуклое значение? Держалка? Плотина? Ну, да, плотина ближе по смыслу и образу, если продолжать соблюдение водной темы. То есть, память, – средство, удерживающее поток событий твоей жизни, и маячащая где-то впереди тебя. Несколько неожиданно, да? Оказывается, всё проистекшее раньше, по сути, находится там же, где и будущее: перед плотиной. А ты к ней постоянно приближаешься. Порой закидываешь ведёрко на верёвочке, зачерпываешь оттуда малую частицу обитания прошедшей и будущей жизни, подносишь ко рту, вкушаешь, и удивляешься.
А выглядит ли память ещё иначе? Выглядит. Память всяко выглядит. Возможно, сидит она в пространствах между нейронами и синапсами в твоей голове, среди загадочного коннектома. Но чем бы она ни представлялась нам, точит в сознании сомнение: точно ли именно память удерживает Прошлое? А не само ли оно не желает отлучаться. Сам случай, само переживание случая – всегда следует за тобой, и никуда не удаляется. Всё переживаемое тобой, остаётся без перемен. Живым. Потому и переживается. Не зацепляется и не обволакивает. Присутствует. Не хочешь, не оглядывайся, не смотри туда, на когда-то переживаемое. Тем более, прямо в глаза. Ведь когда ты смотришь на некий предмет, он предстаёт пред тобой сугубо в настоящем времени. А стоит взгляд отвести в сторону, – уже оказывается там, в коннектоме.
Так и здесь. Выбирай: или час от часу гляди на Прошлое как таковое, всамомделешнее, и заново переживай его; или откладывай в неизведанную память, делая пометки на её карте, дабы жизненный кусочек потом раскопать воображением, да оглядеть с высоты времени сквозь разноцветный туманец.
И жизнь тоже тобой воспринимается подобно тому. Либо она поминутно откладывается в твоей памяти, либо предстаёт перед тобой глаза в глаза, когда ты взглянул на неё, никуда от тебя не уходящую.
Говорят, когда человек умирает, вся его истекшая жизнь проявляется и проносится перед глазами. Не знаю, не могу утверждать, придётся проверить на себе. Но и не обязательно умирать, чтобы видеть свою жизнь. Мы знаем, где она находится. Жизнь всегда здесь, вокруг. А её прошлое – чуточку позади. Не мешает минувшее жить дальше, не путается, как говориться, под ногами. Прошлое – телега. А ты – лошадь. Ты её тащишь. Лошадь ведь не оглядывается на телегу. Более того, ей на глаза устанавливают шоры: пусть глядит вперёд.
Ладно, с лошадью и телегой мы попросту немного позабавились. Сравненьеце эдакое плосковатое вышло. Другого примера, более изысканного и выпуклого мы сочинять, пожалуй, не станем. Главная мысль уже понятна и без того. Жизнь никуда не уходит. И, благодаря её всегдашнему присутствию, перед смертью, когда впереди нет ничего, – всё, бывшее за спиной, проступает сквозь тебя и видится целиком.
Человек, павший на дно лодчонки и свернувшийся в калачик, обернулся назад…
* * *
Далеко под миром небесного бытия, временно оставленного нами, в земном трёхмерном пространстве обитания людей, ребёнок, ставший уже трёх или четырёхлетним мальчиком, лежал в кроватке. Сбоку, на стене висела небольшая шпалера с изображением играющих слонят. Он проснулся недавно и вспоминал сон тоже про слонов, но взрослых и огромных.
Однако вскоре внимание мальчика перенеслось на странный гул. Тихий-тихий, но доносящийся издалека. Непросто издалека, а совсем издалека. И мальчик почувствовал, будто от головы исходит вроде невидимый и невесомый столб или труба, а лёгкий гул проступает именно оттуда. Гул заменился на голос. Похож на человеческий, но язык странный и неизвестный, совсем не тот, на котором говорят родители, брат и остальные люди. Притом голос оказался хорошо знакомым, хоть и действительно слышался впервые. Что изрекалось оттуда, разобрать по словам невозможно, а вот суть улавливалась непосредственно сама по себе. Мальчик понял: у него есть собеседник, он очень далеко где-то над небом, но собеседник тот, – его близкий друг. И действительно, захотелось проговорить. И даже показалось, будто поговорил. Про себя. А потом радостно рассмеялся от удовольствия.
Затем мальчик попробовал пробубнить некие нераспознаваемые звуки вслух, и прислушался. Но столб уже растворился, а из-за окна раздавались девчачьи голоса, в коих вполне различалась обыкновенная речь. Ладно. Теперь надобно сползти на пол с высокой кроватки, да оглядеться по предметам, расставленным в комнате. Вот. На краешке стола обреталась банка с мацони, а рядом ложка и кусок хлеба. Сей намёк был понят, и вскоре содержимое банки и хлеб заметно изменили его худенькую фигуру. Дитя ловко обуло сандалии, открыло наружную дверь, и вырвалось навстречу свободной поре.
Во дворе прыгали несколько девчонок. Они до того нарисовали мелом классики. «Я тоже хочу рисовать», – сказал мальчик. «Умеешь разве»? – посмеялась одна из девочек и подала ему крупный кусок мела. «Не знаю», – ответил мальчик, взяв и рассматривая увесистое средство для рисования, не умещающееся на ладони. Да косо поглядел на ту девочку. Образ её тоже захватился, неизвестно чем, ёмкостью какой-то, где-то далеко в глубине, принял там весьма крупные размеры, и, конечно же, не уместился, обволакивая всё внутреннее пространство. Мальчик удивился, вопрошая себя о случившемся, и ответил шёпотом: «не знаю». Из-за наплыва на ум обоюдного таинственного незнания, он закрыл глаза, отвернулся, открыл снова и увидел иное изображение.
На ближайшем брандмауэре дома прикреплён портрет Сталина. Полотно ещё не успели снять после вчерашнего праздника. Мальчик прищурился и стал вглядываться в особенности рисунка и светотени. Но тут подошли двое взрослых со стремянкой, сняли портрет, свернули трубкой, достали из карманов папироски и принялись перекуривать. Мальчик наклонился над асфальтом да быстренько нарисовал замену свёрнутому портрету. Пришлось трудиться двумя руками, потому что, мы знаем, в одной руке рисовальный предмет не помещался. Неумело да неуклюже юный рисовальщик проделывал творческие движения, но вышло весьма похоже. Оба взрослых приблизились, поглядели, улыбнулись, помотали головами, и один из них сказал: «здорово». Другой поддакнул, но засомневался в сходстве, прищурив один глаз. Мальчик нарисовал рядышком ещё один портрет. «Угу, – отметил тот, другой. И уже без тени сомнения, глазами, изобилующими лаской, глядел на парнишку почти в упор, – теперь лучше».
Мальчик вдохновился, и вскоре вся асфальтовая поверхность двора покрылась портретами Вождя одним единым кружевом, не оставляя и малого места для ходьбы, поскольку некуда было ступить, кроме как на изображение неприкосновенного лица. Лишь несколько квадратиков для игры в «классики» позволяли избежать затаптывание Генералиссимуса, однако в них плотненько приютились девчонки.
Мальчик стоял припёртым к брандмауэру, где недавно висел прототип многопортретного мелового ковра. Он держал двумя шевелящимися пальчиками крошечный остаток орудия беззаветного труда, не зная чему ещё употребить сей пигмент, и вскоре уронил да растёр сандалиями. И никто из жителей двора не дерзнул поругать юного гения за благородное пристрастие к монументальному искусству. И торопиться стирать сие художество никому не приходило в голову. Народу много. Разного. Обиженного, завистливого. Кто-нибудь возьмёт да отпишет донос. Антисоветчик, мол, антикоммунист и вообще враг народа. Кому охота оказаться в гостях НКВД?
Население двора на длительное время оказалось парализованным. Один из людей, снявших портрет со стены, даже взобрался на макушку своей складной лесенки.
* * *
– Странное дело, – ангел услышал звук Начальственного обращения к кому-то неизвестному, наблюдая за цепочкой иных ангелов, пролетающих вдали, и подобрал под себя ноги, до того праздно свисающие с краешка чего-то нематериального. В мыслях теперь пронеслась галерея опасливых ощущений. Действительно, ведь после проявления некой отсебятины, то есть, взятия под собственную ответственность душу младенца, никто из иерархов ничего ему не говорил, несмотря на предполагаемый донос коллег. Не возникло ни порицания, ни похвалы. Хотя, откуда проступит похвала за поступок, совершённый вопреки ангельской природе? А порицания не последовало, наверное, из-за обычной снисходительности здесь, на небесах. Мол, сам натворил, сам и отвечай. И не только отвечай, но и действуй помимо своего Начальства, коли уже стал именно начальником собственного занятия. И поход в приёмную автоматически отложился. Пока.
– Странное дело, – снова послышался голос, – почему ты спокойно сидишь, пролетающих прочих ангелов считаешь, а твой подопечный находится в неудобном положении?
– А что я могу? – робко и с хрипотцой проговорил ангел, поняв, что слова обращены к нему, – сил собственных имею маловато, а мощность ведь вся от Тебя происходят, и по воле Твоей, не моей. – Он опасливо приподнял плечи вместе с крыльями, ожидая упрёка, а то и вовсе неодобрения, и, чего хуже, вообще высылки с небес.
– Одолжи. У Меня не убудет.
– Мой долг и без того велик. Да ещё и вина отягощает его. А всё из-за дерзкой несогласованности моего намерения с Твоей волей. Сам ведь совершил поступок. Без поручения. Да и намерение-то частное. Худое какого-то, отрывочное, вообще наощупь. Мне же недоступно Твоё всеохватное видение. – Своенравного ангела обволокло сложное чувство надежды со страхом.
– Велик, велик должок. Ох, велик. Даже, если ты примешься отдавать одолженное сполна, окончания не случится никогда. Но не горюй, прихвати ещё чуток. Бери новый должок, сколько надо. Вооружайся.
* * *
Откуда ни возьмись, возник ветер, небо заволокло тучами, и пролился крупный дождь «как из ведра». Ещё через пять минут засияло солнце, двор блестел новой свежестью, а на асфальте не осталось ничего, из прежде нарисованного. Проступали только бывшие наиболее жирные линии, ничего собою не изображая. Девочки сетовали на то, что и «классики» смыло, а мел растрачен до небытия. Взрослые облегчённо вздохнули и стали ходить двором туда-сюда. Один из них спрыгнул со стремянки, взгромоздил её на себя и бочком, быстро переставляя ноги, удалился прочь. А другой, тот, кто с рулоном портрета Сталина, подошёл к мальчику и сказал с пристрастием: «молодец, парень».
Вечером из родительской комнаты послышались звуки громкого шёпота.
– Знаешь, мать, сын младшенький наш утром сегодня учудил историю?
– Да слышала. Конфуз.
– Надо же, изрисовал весь двор портретами Сталина. Ступить некуда.
– И тебя, конечно, вызывали?
– Нет. Обошлось. И всё благодаря дождю. Иначе конфуз, по твоим словам, обернулся бы крупной неприятностью. А у меня уже есть один выговор с записью.
– За то, что с начальством не поладил?
– За то.
– Но здесь же было просто детское неразумение.
– Да. Но у нас дети за отцов не отвечают, как говорил сам товарищ Сталин, а отцы за детей, – в полную силу. Научил, мол, сына вредной проделке. И точно перед приходом партийной комиссии. Специально, мол, чтобы комиссия не прошла через двор. А другого пути нет.
– Они же на машине.
– Тем более. Вождя колёсами давить. Кому такое придёт в голову?
– М, да. Повезло тебе. Обошлось и обошлось. Купи ему тетрадку большую, да карандашей всяких. Пусть рисует, но не на асфальте.
* * *
Ангел оглянулся на недавно звучащий голос, но никого там не застал зрением своим. Небо и небо, да более ничего.
Чувство незаконности собственного предприятия у ангела не развеивалось, и тяготило сознание. И теперь он снова побрёл по небесам, окутанный трудными мыслями. «Ах, и душа, та душа тоже ведь незаконно осталась жить на земле. Здесь-то, ко мне все питают снисходительность, потому-то я цел и невредим. А каково же ей, душе, там, на земле, где снисходительность и всякая терпимость не в чести? Ведь пропадёт, если и чуть-чуть отвернусь от неё. Благо, Само Начальство подсказало. Попустило. Само и напомнило о ней».
Мимо пролетала ещё одна вереница ангелов-хранителей. Ладная цепочка, всё в ней говорило о взаимном соучастии друг с другом. Гармония. И сквозная одобрительность пронизывала вдоль и поперёк цельное сообщество, замечательно собранное на просторах небес. Но каждый из ангелов намеренно отворачивался от нашего ангела-отщепенца, давая понять, что с ним-то их не связывало и не свяжет никакое обстоятельство.
Вообще-то ангелам непозволительно слишком оригинальничать. Оно известно из случая с Денницей. А этот, – нате вам. Проявил-таки самость. Нет, бесом его никто не называл, поскольку прослыл бы явным лжецом, что ангелу не к лицу. Но для них вполне допустима дерзость. Да, они проводники воли Господней, но, позвольте заметить, дерзость не возбраняется в этой специальности. Бывают ведь даже «сверхпроводники». Так что, пусть себе дерзает на собственном поприще. И нет оснований обвинить нашего ангела в бесовских помыслах. Здесь, на небесах он ведь не думал ни от кого отпадать, ни с кем соперничать, тем более, касательно Начальства. Его дерзкая самостоятельность коснулась лишь одной души человеческой. Однако претензия на нелестное порицание активно произрастала в мыслях некоторой части многочисленного воинства небесного. «Не наш», – такая клейкая печать пристала к облику чудного ангела. Грустно, конечно. И, вдобавок, голоса Господня подолгу не приходилось ему слышать. И приглашения на аудиенцию не получал: ни от архангелов, ни от серафимов с херувимами, ни от власти… ни от остальной иерархии. Печально и одиноко ему. Будто и не пребывает в мире это и без того бесплотное существо…
«Один только малыш у меня. И более никого», – заключил ангел свою думу. «И тоже большой оригинал», – добавил он, хихикнув.