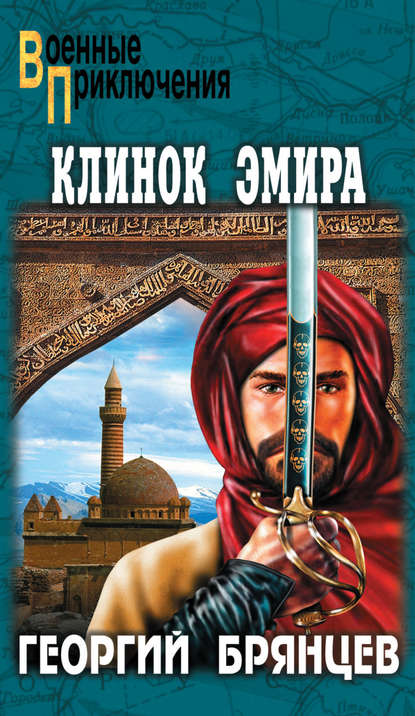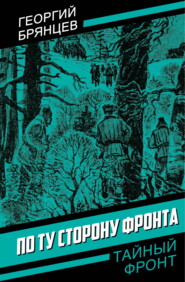По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Клинок эмира
Серия
Год написания книги
1964
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Курбаши?.. – недоверчиво повторил ординарец.
– Да, он, – подтвердил Умар. – Уж я-то знаю эмирскую собаку. И рассчитался с ним его же клинком… Этот клинок подарил беку эмир бухарский… Не гадал, видно, курбаши, что так обернется для него подарочек…
– Что ж… по заслугам, – проговорил командир.
– Собаке собачья смерть, – поставил точку ординарец.
Всадники медленно отъехали.
6
Быстро катилось вниз злое солнце пустыни. На западной окраине неба полыхал багровый пожар. Мертвая зыбь песков простиралась вокруг, и, казалось, не было ей ни конца ни края.
Вторые сутки брели по безлюдью сквозь прохладу короткой ночи и зной долгого дня Узун-кулок и Хаким.
Впереди виднелись неясные очертания того кишлака, где недавно провел дневку отряд особого назначения.
Жажда и голод – самые страшные враги в пустыне – не пугали путников. Они отправились в свой нелегкий путь не с пустыми руками.
Выждав, когда аскеры, забрав своих раненых и убитых, лошадей и разбросанное оружие, покинули поле боя, Узун-кулок и Хаким вышли из укрытия.
Они долго всматривались, вслушивались и, убедившись окончательно, что никакая опасность им не угрожает, стали пробираться в заросли.
При виде людей стервятники всполошились и с недовольным клекотом прервали начатую трапезу. Но они не улетали, а кружились в воздухе, будто знали, что этим двум живым нечего задерживаться среди мертвых.
Узун-кулок и Хаким не на шутку перепугались, когда чуть не из-под их ног с визгом выпрыгнул и умчался шакал. У него была золотисто-серая шерсть и небольшие, широко расставленные уши.
– Падаль, – пробурчал Узун-кулок, стараясь вернуть утраченную храбрость.
Выйдя на место битвы, они остановились, окинули взором распростертые на песке трупы басмачей, и Узун-кулок изрек:
– Души правоверных воинов уже на небесах. Им теперь ничего не нужно. О них позаботится всемогущий. Ты поищи что-либо из еды, а я пороюсь у них в карманах.
Мертвых Узун-кулок не боялся. Сказывалась профессия: в течение семи лет он усердно нес службу палача при хивинском хане и набил руку основательно. Удалить язык у подкандального, выпустить ему кровь через вены, отрезать нос или уши, снять кожу со спины или отпилить голову – для него было сущей безделицей. Хивинский хан любил даже похвастаться своим палачом и, поцокивая языком, говорил приближенным: «Золотые руки».
Узун-кулок ощупал убитых, собрал несколько серебряных табакерок, пузыречки с насом[14 - Нас – жевательный табак.], тюбетейки, пачки сигарет, серьги, кольца и браслеты, награбленные его собратьями в домах колхозников. Подумал и стянул с убитого Саитбая лакированные сапоги.
Хаким в это время промышлял по части еды, хотя и не так смело, как Узун-кулок. Красноармейцы угнали лошадей, нагруженных провизией, и Хакиму удалось собрать лишь несколько лепешек, горсти четыре урюка и два куска вяленого бараньего мяса. Самой удачной находкой оказался бурдюк, наполовину наполненный водой. Хаким вытащил его из-под убитой лошади.
Когда путники достигли брошенного кишлака, солнце уже опустилось за горизонт.
Они сделали привал, подкрепились из своих запасов и тут же заспорили. Хаким считал нужным сейчас же отправиться в путь, пользуясь прохладой. До ближайшего селения оставалось идти еще двое суток. Он доказывал, что надо беречь время, да и запасы еды очень скудны.
Узун-кулок возражал и требовал ночевки: сапоги покойного Саитбая оказались немного узковатыми, они жали в ступне и натрудили ноги.
Тогда Хаким заявил, что пойдет один. Он взял свою котомку, перекинул через плечо и зашагал по песчаной тропе.
– Подожди! Ты очень несговорчивый человек. Только мне надо разуться, – сдался Узун-кулок. – Пойду босым. – И он начал стаскивать сапоги.
Хаким терпеливо ожидал приятеля.
Через несколько минут они покинули кишлак.
Небо постепенно теряло свои краски, сгущалось, как бы поднималось выше, но звезд еще не было.
Узун-кулок шел первым. Они пересекали кладбище, лежавшее на дороге. Под ногами рушились глиняные холмики могил, поросшие колючкой.
И вдруг Узун-кулок сделал такой невероятный прыжок и так закричал, что Хаким замер на месте и затрясся от страха. От могилы, на которую только что ступил Узун-кулок, быстро отползала метровая змея толщиной в руку, светло-серой окраски, с темными пятнами на спине и боках.
– Гюрза… – в ужасе прошептал Хаким, следя широко открытыми глазами за гадиной. Она, извиваясь и шипя, стремилась к расщелине в могиле и через мгновение скрылась в ней. – Гюрза, – повторил Хаким.
Узун-кулок продолжал пронзительно кричать. Вначале он прыгал на одной ноге, ухватившись рукой за другую, затем стал кататься по земле, корчась от боли.
– Горит… горит!.. Ай-яй-яй!.. – кричал он.
«Гюрза – это верная смерть», – подумал Хаким.
Как человек самый грамотный в отряде, когда-то бывший прислужником в мечети, затем долгое время писарем курбаши, он кое-что прочитал за свою пятидесятилетнюю жизнь и знал, что после укуса гюрзы – этой самой страшной из змей Азии – человека можно спасти. Но для этого нужно многое. Прежде всего следует высосать кровь из ранки, затем перетянуть жгутом место повыше укуса, чтобы заражение не распространялось, потом вспрыснуть какую-то сыворотку и, наконец, напоить больного крепким горячим чаем.
Но где же взять сыворотку и чай? Да и стоит ли вообще предпринимать что-либо для спасения Узун-кулока? Заслуживает ли этот живодер того, чтобы ради него рисковать собственной жизнью? Нет, не заслуживает. Он очень плохой человек. Его боялись и ненавидели все добрые мусульмане. В Хиве им даже пугали детей. Не моргнув глазом, он мог бросить человека в костер, снять с человека кожу. Кличку Длинное ухо он тоже получил не напрасно. Он разнюхивал и выведывал, натравливал курбаши на джигитов, сплетничал. Он был мастер клеветы и мог запутать в сетях ложных наветов совершенно невинного человека. Его мог терпеть и держать около себя только Ахмедбек. А помощник бека – Саитбай, хотя и сам живодер из живодеров, Узун-кулока не выносил. За что же спасать его? Кому нужен он? Уж не лучше ли предоставить аллаху распорядиться его судьбой в этот злосчастный час? Да, так, пожалуй, будет лучше.
Хаким подошел к Узун-кулоку и опустился возле него на корточки.
Узун-кулок сидел на земле, обхватив руками ногу, и, покачиваясь взад и вперед, стонал. Чуть повыше лодыжки на правой ноге его виднелась маленькая, едва приметная ранка. Нога успела уже распухнуть и посинеть.
– Больно? – сочувственно осведомился Хаким.
– Ты… Ты виноват… Ты настаивал на том, чтобы идти… Из-за тебя… О-о-о!.. Пропал… пропал я… – прокричал Узун-кулок и на всякий случай подвинул к себе мешок с добром. – Ты что сидишь сложа руки?.. Спасай меня!.. Какой ты друг? Соси кровь из раны! Слышишь? Соси!
– Поздно! – ответил ему Хаким. – Уже поздно. Теперь надо отрезать ногу, – и он вытащил из-под халата длинный нож.
– Нет, нет! – закричал Узун-кулок. – Не надо резать. Нога мне нужна… Что я буду делать без ноги?
– Твое дело, – невозмутимо произнес Хаким. – Я говорю правильно. Лучше жить с одной ногой, чем совсем не жить. Моему деду отрезали ногу, когда ему было тридцать лет. Он рассек ступню кетменем и получил заражение крови. С одной ногой он прожил сто девять лет и пережил шестерых жен. Он имел четырнадцать сыновей, трех дочерей, восемьдесят девять внуков и двадцать три правнука. Один из внуков – я. Понял?
– Ты змей! Ты хуже гюрзы! Ты издеваешься надо мной. Аллах накажет тебя! – прокричал Узун-кулок, и на лице его выступил обильный пот.
– Я и не думал смеяться, – возразил Хаким. – Тебе это кажется. Если хочешь жить, давай я отрежу тебе ногу. Не всю. Всю не надо. Вот так, чуть повыше коленки. Смотри, какой у меня острый нож, – он провел лезвием по своему ногтю, и на ногте осталась белая полоска. – Этим ножом я всегда брил бороду Саитбаю. Ты же знаешь. А борода у Саитбая жесткая и крепкая, как проволока. Я быстро все сделаю. Закуси себе палец, закрой глаза, а я буду резать.
Узун-кулок перестал качаться, дыхание его стало тяжелым, прерывистым. Передохнув немного, он уставился глазами в одну точку, страшно заскрежетал зубами и решительно бросил:
– Режь! Мне все равно. Мне холодно. Сердце останавливается.
Но стоило только Хакиму прикоснуться рукой к его ноге, чтобы поднять повыше штанину, как Узун-кулок изловчился и здоровой ногой так пнул его в грудь, что Хаким отлетел шагов на десять.
– Вот тебе, шакал! – прохрипел Узун-кулок. – Ты жаждешь моей смерти?
Хаким поднялся, отряхнулся от пыли и без всякой обиды в голосе сказал:
– Да, он, – подтвердил Умар. – Уж я-то знаю эмирскую собаку. И рассчитался с ним его же клинком… Этот клинок подарил беку эмир бухарский… Не гадал, видно, курбаши, что так обернется для него подарочек…
– Что ж… по заслугам, – проговорил командир.
– Собаке собачья смерть, – поставил точку ординарец.
Всадники медленно отъехали.
6
Быстро катилось вниз злое солнце пустыни. На западной окраине неба полыхал багровый пожар. Мертвая зыбь песков простиралась вокруг, и, казалось, не было ей ни конца ни края.
Вторые сутки брели по безлюдью сквозь прохладу короткой ночи и зной долгого дня Узун-кулок и Хаким.
Впереди виднелись неясные очертания того кишлака, где недавно провел дневку отряд особого назначения.
Жажда и голод – самые страшные враги в пустыне – не пугали путников. Они отправились в свой нелегкий путь не с пустыми руками.
Выждав, когда аскеры, забрав своих раненых и убитых, лошадей и разбросанное оружие, покинули поле боя, Узун-кулок и Хаким вышли из укрытия.
Они долго всматривались, вслушивались и, убедившись окончательно, что никакая опасность им не угрожает, стали пробираться в заросли.
При виде людей стервятники всполошились и с недовольным клекотом прервали начатую трапезу. Но они не улетали, а кружились в воздухе, будто знали, что этим двум живым нечего задерживаться среди мертвых.
Узун-кулок и Хаким не на шутку перепугались, когда чуть не из-под их ног с визгом выпрыгнул и умчался шакал. У него была золотисто-серая шерсть и небольшие, широко расставленные уши.
– Падаль, – пробурчал Узун-кулок, стараясь вернуть утраченную храбрость.
Выйдя на место битвы, они остановились, окинули взором распростертые на песке трупы басмачей, и Узун-кулок изрек:
– Души правоверных воинов уже на небесах. Им теперь ничего не нужно. О них позаботится всемогущий. Ты поищи что-либо из еды, а я пороюсь у них в карманах.
Мертвых Узун-кулок не боялся. Сказывалась профессия: в течение семи лет он усердно нес службу палача при хивинском хане и набил руку основательно. Удалить язык у подкандального, выпустить ему кровь через вены, отрезать нос или уши, снять кожу со спины или отпилить голову – для него было сущей безделицей. Хивинский хан любил даже похвастаться своим палачом и, поцокивая языком, говорил приближенным: «Золотые руки».
Узун-кулок ощупал убитых, собрал несколько серебряных табакерок, пузыречки с насом[14 - Нас – жевательный табак.], тюбетейки, пачки сигарет, серьги, кольца и браслеты, награбленные его собратьями в домах колхозников. Подумал и стянул с убитого Саитбая лакированные сапоги.
Хаким в это время промышлял по части еды, хотя и не так смело, как Узун-кулок. Красноармейцы угнали лошадей, нагруженных провизией, и Хакиму удалось собрать лишь несколько лепешек, горсти четыре урюка и два куска вяленого бараньего мяса. Самой удачной находкой оказался бурдюк, наполовину наполненный водой. Хаким вытащил его из-под убитой лошади.
Когда путники достигли брошенного кишлака, солнце уже опустилось за горизонт.
Они сделали привал, подкрепились из своих запасов и тут же заспорили. Хаким считал нужным сейчас же отправиться в путь, пользуясь прохладой. До ближайшего селения оставалось идти еще двое суток. Он доказывал, что надо беречь время, да и запасы еды очень скудны.
Узун-кулок возражал и требовал ночевки: сапоги покойного Саитбая оказались немного узковатыми, они жали в ступне и натрудили ноги.
Тогда Хаким заявил, что пойдет один. Он взял свою котомку, перекинул через плечо и зашагал по песчаной тропе.
– Подожди! Ты очень несговорчивый человек. Только мне надо разуться, – сдался Узун-кулок. – Пойду босым. – И он начал стаскивать сапоги.
Хаким терпеливо ожидал приятеля.
Через несколько минут они покинули кишлак.
Небо постепенно теряло свои краски, сгущалось, как бы поднималось выше, но звезд еще не было.
Узун-кулок шел первым. Они пересекали кладбище, лежавшее на дороге. Под ногами рушились глиняные холмики могил, поросшие колючкой.
И вдруг Узун-кулок сделал такой невероятный прыжок и так закричал, что Хаким замер на месте и затрясся от страха. От могилы, на которую только что ступил Узун-кулок, быстро отползала метровая змея толщиной в руку, светло-серой окраски, с темными пятнами на спине и боках.
– Гюрза… – в ужасе прошептал Хаким, следя широко открытыми глазами за гадиной. Она, извиваясь и шипя, стремилась к расщелине в могиле и через мгновение скрылась в ней. – Гюрза, – повторил Хаким.
Узун-кулок продолжал пронзительно кричать. Вначале он прыгал на одной ноге, ухватившись рукой за другую, затем стал кататься по земле, корчась от боли.
– Горит… горит!.. Ай-яй-яй!.. – кричал он.
«Гюрза – это верная смерть», – подумал Хаким.
Как человек самый грамотный в отряде, когда-то бывший прислужником в мечети, затем долгое время писарем курбаши, он кое-что прочитал за свою пятидесятилетнюю жизнь и знал, что после укуса гюрзы – этой самой страшной из змей Азии – человека можно спасти. Но для этого нужно многое. Прежде всего следует высосать кровь из ранки, затем перетянуть жгутом место повыше укуса, чтобы заражение не распространялось, потом вспрыснуть какую-то сыворотку и, наконец, напоить больного крепким горячим чаем.
Но где же взять сыворотку и чай? Да и стоит ли вообще предпринимать что-либо для спасения Узун-кулока? Заслуживает ли этот живодер того, чтобы ради него рисковать собственной жизнью? Нет, не заслуживает. Он очень плохой человек. Его боялись и ненавидели все добрые мусульмане. В Хиве им даже пугали детей. Не моргнув глазом, он мог бросить человека в костер, снять с человека кожу. Кличку Длинное ухо он тоже получил не напрасно. Он разнюхивал и выведывал, натравливал курбаши на джигитов, сплетничал. Он был мастер клеветы и мог запутать в сетях ложных наветов совершенно невинного человека. Его мог терпеть и держать около себя только Ахмедбек. А помощник бека – Саитбай, хотя и сам живодер из живодеров, Узун-кулока не выносил. За что же спасать его? Кому нужен он? Уж не лучше ли предоставить аллаху распорядиться его судьбой в этот злосчастный час? Да, так, пожалуй, будет лучше.
Хаким подошел к Узун-кулоку и опустился возле него на корточки.
Узун-кулок сидел на земле, обхватив руками ногу, и, покачиваясь взад и вперед, стонал. Чуть повыше лодыжки на правой ноге его виднелась маленькая, едва приметная ранка. Нога успела уже распухнуть и посинеть.
– Больно? – сочувственно осведомился Хаким.
– Ты… Ты виноват… Ты настаивал на том, чтобы идти… Из-за тебя… О-о-о!.. Пропал… пропал я… – прокричал Узун-кулок и на всякий случай подвинул к себе мешок с добром. – Ты что сидишь сложа руки?.. Спасай меня!.. Какой ты друг? Соси кровь из раны! Слышишь? Соси!
– Поздно! – ответил ему Хаким. – Уже поздно. Теперь надо отрезать ногу, – и он вытащил из-под халата длинный нож.
– Нет, нет! – закричал Узун-кулок. – Не надо резать. Нога мне нужна… Что я буду делать без ноги?
– Твое дело, – невозмутимо произнес Хаким. – Я говорю правильно. Лучше жить с одной ногой, чем совсем не жить. Моему деду отрезали ногу, когда ему было тридцать лет. Он рассек ступню кетменем и получил заражение крови. С одной ногой он прожил сто девять лет и пережил шестерых жен. Он имел четырнадцать сыновей, трех дочерей, восемьдесят девять внуков и двадцать три правнука. Один из внуков – я. Понял?
– Ты змей! Ты хуже гюрзы! Ты издеваешься надо мной. Аллах накажет тебя! – прокричал Узун-кулок, и на лице его выступил обильный пот.
– Я и не думал смеяться, – возразил Хаким. – Тебе это кажется. Если хочешь жить, давай я отрежу тебе ногу. Не всю. Всю не надо. Вот так, чуть повыше коленки. Смотри, какой у меня острый нож, – он провел лезвием по своему ногтю, и на ногте осталась белая полоска. – Этим ножом я всегда брил бороду Саитбаю. Ты же знаешь. А борода у Саитбая жесткая и крепкая, как проволока. Я быстро все сделаю. Закуси себе палец, закрой глаза, а я буду резать.
Узун-кулок перестал качаться, дыхание его стало тяжелым, прерывистым. Передохнув немного, он уставился глазами в одну точку, страшно заскрежетал зубами и решительно бросил:
– Режь! Мне все равно. Мне холодно. Сердце останавливается.
Но стоило только Хакиму прикоснуться рукой к его ноге, чтобы поднять повыше штанину, как Узун-кулок изловчился и здоровой ногой так пнул его в грудь, что Хаким отлетел шагов на десять.
– Вот тебе, шакал! – прохрипел Узун-кулок. – Ты жаждешь моей смерти?
Хаким поднялся, отряхнулся от пыли и без всякой обиды в голосе сказал: