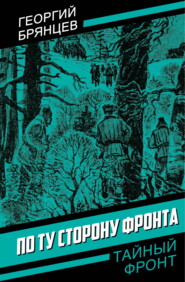По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Конец «осиного гнезда»
Серия
Год написания книги
1960
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Охотились за железнодорожными грузами? – усмехнулся Гюберт.
Я промолчал.
– Так… хорошо, – сказал Гюберт и решительно поднялся.
Я тоже встал и понял, что беседа окончена. Да и пора уже было.
– Вам придется все, что вы мне сказали, – предупредил он, – изложить письменно.
Я кивнул.
Гюберт снял трубку телефона и потребовал к себе обер-лейтенанта Эриха Шнабеля. Положив трубку, он сказал:
– До города недалеко, с километр, но я поселю вас здесь.
– Как вам угодно, – заметил я.
– Так будет и вам и мне спокойнее. Но со временем я разрешу вам бывать в городе. Это совсем невредно.
– Хорошо, – согласился я.
– Вы бывали в этом городе?
– Да, раза два-три, но очень давно.
– Примерно?
– Лет десять назад.
– Тогда это не страшно.
Вошел обер-лейтенант и вытянулся перед Гюбертом. Гюберт приказал ему поместить меня в отдельную комнату, зачислить на довольствие, обеспечить бумагой, ручкой, чернилами, выдать несколько пачек сигарет и тут же очень спокойно, не меняя выражения лица, добавил по-немецки:
– Повесить его. Сегодня же ночью. Я ему ни в чем не верю.
– Яволль, герр гауптман![10 - Есть, господин капитан!] – ответил обер-лейтенант.
Призвав на помощь всю свою волю, я поклонился Гюберту и, повернувшись, пошел к выходу. Ноги мои двигались автоматически, независимо от желания и воли.
«Повесить! Сегодня же ночью повесить!..» Удар был неожиданный и страшный. И это после того, как разговор принял вполне дружелюбный характер.
Мы вышли, пересекли двор и оказались в столовой, где я уже завтракал. Мне подали обед, но я не хотел есть. На несколько минут я поддался настроению, вызванному безвыходностью своего положения. Поддался внутренне. Внешне я, кажется, «не терял вида». А это главное. Натренированные нервы не выдали. Я беру себя в руки. Ведь я «ничего не понял». Это – основное правило моего поведения здесь. Все должно выглядеть так, будто я действительно ничего не понял, не подозреваю. Я сделал несколько физических упражнений, чтобы привести себя в норму, прошелся вокруг стола, пытаясь восстановить нормальное дыхание. Мой взгляд упал на обер-лейтенанта. Он сидел в кресле, откинувшись назад, и пристально смотрел на меня. Признаюсь, что, погруженный в свои переживания, я на несколько минут совершенно забыл о существовании этого молодчика. Мне казалось, что я один в комнате, тем более что Шнабель сидел неподвижно. И тут молнией пронзила меня мысль, от которой мне снова стало жарко. Зачем он здесь? Почему он так испытующе смотрит на меня? И тут же сознание дает ответ: не потому ли, что он проверяет меня и хочет знать, понял ли я приказ Гюберта, то есть знаю ли я немецкий язык? И мгновенно, почти одновременно, другая мысль: а может быть, все это провокация, но наивная, рассчитанная на слабые нервы?
Мысли несутся вихрем. В самом деле, если меня решили повесить всерьез, потому что не доверяют или имеют улики против меня, мне неизвестные, то зачем же проверять, к чему? Что это может дать, если судьба моя решена? Ровным счетом ничего. Если окажется, что я понимаю язык, то Гюберт получает добавочный сильный довод не доверять мне и, следовательно, покончить со мной. А если проверка покажет, что я действительно не знаю языка, то может ли это обстоятельство смягчить мою участь, послужить поводом для отмены вынесенного приговора?
Мысль работает лихорадочно. Логика говорит, что приказ Гюберта эксперимент, провокация. Чувствую, что появляется лучик надежды. Может быть, не все потеряно. И тут же новая мысль, новый страх: может быть, все было хорошо, а я выдал себя именно сейчас, вот в эти самые минуты? И Гюберт, как притаившийся хищник, ждал именно этих самых минут, этого состояния внутренней растерянности своей жертвы. Стоит ли еще маскироваться, если и так все кончено? Нет, бороться до последней минуты!..
Я снова бросаю взгляд на Шнабеля. Тот по-прежнему смотрит на меня. А может быть, прошло и не так уж много времени, как мне показалось? Надо спасать положение. Я делаю еще несколько упражнений, как бы продолжающих прежние, бодро улыбаюсь, одобрительно киваю обер-лейтенанту, потираю руки, медленно, как бы предвкушая еду, подвигаю к себе тарелку с первым блюдом. Надо показать, что я ничего не понял, что я тот же, что и раньше. Медленно нагибаюсь, чтобы распустить шнурок на ботинке. Говорю обер-лейтенанту: «А ботинки мне все-таки не удалось подобрать как следует».
После обеда обер-лейтенант Шнабель провел меня в отведенную комнату и жестами предложил располагаться. Мне все время чудилось, что на лице Шнабеля играет какая-то зловещая улыбка.
Наконец я остался один. Первым делом я сдернул с себя галстук. Туго затянутый и непривычный, он наводил на тяжелые мысли: казалось, что уже накинута петля на шее… Затем я осмотрел свое жилище. Это была небольшая комната с двумя глухими стенами и одним оконцем, смотревшим в лес. Столик, кровать, тумбочка с часами старинной конструкции и очень замысловатыми на вид, старый коврик и три стула составляли убранство комнаты.
В моих ушах отчетливо звучали сухие, бесстрастные слова Гюберта: «Повесить его. Сегодня же ночью». Машинально, по профессиональной привычке, я бегло осмотрел все предметы, находившиеся в комнате: хотел убедиться, не спрятаны ли где-нибудь специальные приспособления для подслушивания и наблюдения за мною. Но ничего подозрительного не обнаружил.
Потом я заглянул в оконце. Между двумя рядами проволоки прохаживался часовой. На дворе уже темнело.
«Повесить!..» Это не то, что «проверить» или «понаблюдать». Это не призрак опасности, а уже сама опасность. Более того, это конец.
Конец в самом начале. Но что же мне делать? Как поступить? Я опустился на стул и уставился глазами в пространство. Теперь, когда я остался наедине с собой, я пытался разобраться в своем положении. Казалось, оно безвыходно.
Бежать? Нет, не годится… Выйти из этого логова невозможно.
Мысль о бегстве, по крайней мере сейчас, до возникновения каких-либо иных, более удобных обстоятельств, следовало отбросить.
А таким ли уж в самом деле безнадежным было мое положение? На первый взгляд – да. Но человеческая натура такова, что человек даже на самом краю гибели не хочет отказываться от надежды на спасение, хотя разум не видит для этого никаких оснований.
Я сказал себе: «Подумай, как поступил бы ты сейчас, если бы ничего не произошло, если бы ты не знал языка и не понял сказанного Гюбертом? Ты плохо спал, устал и, наверное, лег бы сейчас же спать. Именно так ты и должен действовать. Настрой себя внутренне на этот лад».
Я походил по комнате, надеясь разрядить нервное напряжение, какого я, кажется, не испытал за всю жизнь. Я заставил себя зевнуть, потянуться, принять вид уставшего человека. Я даже пробурчал себе под нос какой-то мотивчик, хотя он прозвучал довольно неестественно и жалко. Подойдя к кровати, я взбил подушку, не спеша разделся, выключил свет и лег. Я старался делать все так, как делал это обычно: не торопясь, привычными движениями. Но сон был далек от меня. Ведь я все-таки не знал, были ли слова Гюберта подлинным приказом или испытанием.
«Сегодня же ночью». Но ночь велика! Ее с избытком хватит на то, чтобы умереть сто раз.
Я улегся на бок. Перед глазами была бревенчатая стена. Свет от качавшегося снаружи на ветру электрического фонаря метался по стене.
Где-то глубоко-глубоко сверлила мысль: «А если это не провокация, не испытание, то чего же ты лежишь? Почему не действуешь? Вставай! Не жди, пока тебе набросят петлю на шею! Еще есть время спасти себя. Окно без решетки, ты можешь им воспользоваться. Лес ты знаешь, как леший… Вставай! Ты же разведчик! А разведчик всегда должен найти выход из положения. Твое задание сорвалось. Но зря жизнь-то губить глупо и ни к чему».
Но я продолжал лежать. Голос искушения не встречал отзвука.
Какая-то часть моего сознания сопротивлялась ему. Мое внутреннее «я» было словно ареной ожесточенного боя. На одной стороне как будто здравый смысл, на другой – чувство долга, который еще не был исполнен.
Сколько бы раз я ни ходил по заданию в тыл врага, я всегда решал для себя, что должен вести себя так, чтобы после моей гибели родные и товарищи вспоминали мое имя не краснея, чтобы партия была твердо уверена, что я сделал все, что от меня требовалось, или, по крайней мере все, что я мог. А пока я еще не сделал ничего. Ровным счетом ничего.
«Тик-так… тик-так… тик-так…» – монотонно выстукивал маятник, отсчитывая секунды и минуты. Стук часов был единственным звуком в окружавшей меня тишине. Я вслушивался в него, старался забыться, не думать о том, что уже случилось и что еще случится, и опять почему-то на ум мне пришел отобранный вчера утром перочинный нож. Нелепо, но факт. Мне как-то говорил подполковник Фирсанов, что люди, которые особенно часто сталкиваются с опасностью, способны сильно привязываться к мелким вещам. Я не придал тогда никакого значения этому замечанию, а сейчас вспомнил и поймал себя на том, что и сам страдаю этой странной болезнью…
Прошел час, другой, третий… Я лежал с открытыми глазами, ощущая все возрастающую боль в затылке. Мысленно я несколько раз умирал и несколько раз вновь возрождался к жизни. Я понимал, что меня стерегут, что я в западне.
Но вот послышались шаги. Они приближались. Я закрыл глаза и, призвав на помощь всю силу воли, стал легонько похрапывать. Кто-то остановился у дверей моей комнаты. Остановился и, наверное, прислушивается. Пауза затянулась. Наконец в дверь осторожно постучали.
Я не шелохнулся и сильнее захрапел. Стук повторился настойчивее. Я не отозвался. Но вот дверь открылась, кто-то вошел в комнату. Щелкнул выключатель, и загорелся свет. Он ударил в глаза сквозь смеженные веки. Я продолжал лежать.
Вошедший легонько коснулся моего плеча, а когда я и на это не реагировал, резко толкнул меня. Тогда я быстро вскочил, сбросил с себя легкое одеяло, сел, свесив ноги, зажмурил глаза и с непонимающим видом уставился на вошедшего.
Это был обер-лейтенант Эрих Шнабель. Он внимательно смотрел на меня, и теперь в его темных глазах я не подметил и намека на усмешку.
Эрих Шнабель жестами и знаками предложил мне одеться и следовать за ним. Сейчас все решится. Неужели конец?..
Но почему он один? Вешать человека не так-то просто! Хотя там, на месте, наверняка будут люди…