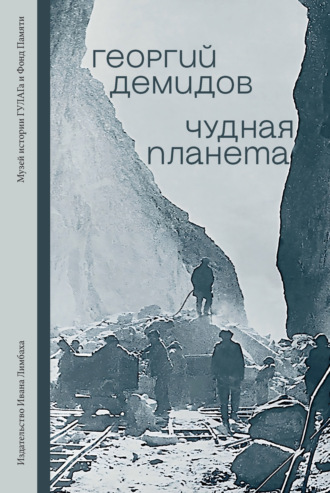
Чудная планета. Лагерные рассказы
Нет ничего проще, как списать погибшего в лагере заключенного.
Другое дело – лошадь; как и всякая материальная ценность, она занесена в бухгалтерские книги с точным обозначением ее стоимости в рублях и копейках. Оформить исчезновение этой ценности так просто, как оформлялось исчезновение из жизни человека, было нельзя. Там хватало клочка бумаги, нацарапанного лагерным лекпомом. Здесь был необходим обстоятельный акт, составленный авторитетной комиссией при обязательном участии ветеринарного врача и свидетелей гибели животного. Следовало установить, по какой статье должны быть списаны понесенные лагерем убытки и кто несет за эти убытки персональную ответственность.
Начальство, лагерное и конвойное, злилось одинаково сильно на обоих дураков, бойца и заключенного. Формально, однако, обвинить их было трудно, по крайней мере без неприятностей для самого начальства. Постовой ссылался на инструкцию о пропусках для бесконвойных, которую здесь нарушали; заключенный дал свое конокрадское объяснение, опровергнуть которое было нечем и незачем. Кроме того, конокрад был и так достаточно наказан за рецидив своей былой лихости. С простреленной ногой он лежал в лагерной больнице. Гизатуллин не только не сожалел о случившемся, но испытывал на этот раз настоящее удовлетворение. Он отомстил-таки ненавистному конокрадскому племени за старое горе своей семьи. И притом гораздо лучше, чем рассчитывал. Жаль только, что взял слишком низко и ни за что сгубил бедную животину. Историю с подстреленной лошадью как-то замяли. Но вскоре после нее Гизатуллин получил приказ отправляться в Магадан в распоряжение главного штаба ВОХР.
Вообще-то, в этом не было ничего чрезвычайного. Перемещение бойцов охраны производилось постоянно и преследовало несколько целей. Прежде всего, нужно было периодически разрушать связи, неизбежно устанавливающиеся между людьми, даже если один из них заключенный, а другой охранник. Затем, было бы несправедливо одних бойцов держать всё время в таких гиблых местах, как прииск Каньон, а других где-нибудь при сельхозлаге, например, в южной части края. Это гуманное соображение подкреплялось другим, куда более важным с точки зрения главного вохровского начальства. В сельхозлагерях Дальстроя, как и всюду в лагерях легкого труда, режим был неизбежно слабее. Постепенно в них распускались не только заключенные, но и бойцы местных охранных дивизионов. Поэтому считалось полезным время от времени производить замену обленившихся и ставших не в меру благодушными охранников лагерей-«курортов» их озверелыми товарищами из лагерей основного производства. Это всегда способствовало восстановлению необходимой жестокости режима. Наконец, в отдельных случаях, к таким следовало отнести и случай Гизатуллина на Каньоне, действительной причиной удаления бойца из местного дивизиона была его нежелательность для начальства. Это был далеко уже не тот парень из колхоза, который внимал во времена своей службы в армии каждому слову командира как откровению или повелению свыше. Теперь он мог проявить иногда избыточную принципиальность, основанную на слишком буквальном толковании устава. И трудно было понять, отчего это происходит – от глупости или от затаенной хитрости. Лучше избавиться от него под таким благовидным предлогом, например, как его болезненная нервозность. Тем более что списание лошади производилось далеко не в точном соответствии с действительными фактами.
В Магадане боец из Каньона прошел медицинскую комиссию. Врачи нашли у молодого и внешне очень крепкого парня выраженные нарушения рефлекторных реакций и все другие признаки нервного истощения. Было решено отправить его в охрану недалекого сельскохозяйственного лагеря, откуда как раз поступила заявка на нескольких бойцов.
Когда невысокий скуластый парень с монгольскими глазами отошел от стола, председатель комиссии сказал вполголоса, обращаясь к своим коллегам:
– А нервы у этого татарина, как у истеричной дамы… Не хотел бы я попасть к такому под охрану.
Галаганский сельхоз расположился на тех самых охотских берегах, которые почти два года назад поразили новичков на Колыме своей угрюмостью и чуждым видом. Правда, тогда была осень, а сейчас стояла только вторая половина лета. Но и в равных погодных условиях после Каньона с зубчатыми вершинами его мертвых сопок, казавшихся бастионами свирепых джиннов, здешняя местность выглядела почти приветливой. Совхоз с его полями, фермами и поселком вольных расположился в широкой долине реки Товуя, впадающей здесь в море. В той же долине находились и лагерь, и казарма для охраны. Были здесь, конечно, и неизбежные сопки. Но они не лезли в глаза, как в других местах, так как с одной стороны долины были едва видны из-за расстояния, а с другой – спускались к широкой реке. Сплошные заросли стланика на их склонах делали эти сопки красивыми и почти веселыми. По крайней мере, в погожие летние дни.
Со стороны моря, до которого здесь было всего километра три, горизонт был совершенно открыт. До службы на Каньоне Файзулле и в голову не приходило, до чего важно для равнинного человека видеть эту линию границы земли и неба. Казалось, что легче было даже дышать, как будто от входа в подземелье отвалили закрывавший его камень.
Совершенно другими, чем на прииске, были здесь и заключенные. Движущихся скелетов с потухшими глазами здесь не было видно совсем. Полевые работы, хотя принято считать, что крестьянский труд один из самых тяжелых, это далеко не то, что каторга рудников и приисков. А главное, заключенных здесь досыта кормили. Было еще одно обстоятельство, которое может заметить только человек, долго проживший в местности, где не было женщин. Здесь они встречались на каждом шагу – и вольные и заключенные. И не будь Гизатуллин человеком аскетического склада, с фанатично инквизиционным представлением о роли лагерей, он бы, подобно всем попадавшим в эти места из колымской глубинки, такому обстоятельству только порадовался бы. Но Файзулле вид некоторых здешних лагерниц показался почти разухабистым для заключенных. Ведь они присланы сюда отбывать наказание, а не стрелять глазами в незнакомых мужиков!
Правда, по рассказам старослужащих здешней охраны, положение заключенных, да и не только их одних, резко ухудшилось со времени появления нового начальника лагеря. Он тут недавно, но уже успел проявить себя как почти чокнутый на строгостях лагерного режима. Хочет добиться таких же порядков, которые существуют в горных лагерях. Но там это образуется как бы само собой из-за сурового климата, трудностей снабжения, тяжести работы и прочего. Здесь же новый начлаг пытается организовать подобные условия искусственным путем. Он какой-то малахольный, этот начлаг. За присказку, которую он употребляет к месту и не к месту, заключенные прозвали его Повесь-чайник.
Всех зэков этот Повесь-чайник старается загнать под конвой. Это в совхозе, в котором на целые километры вдоль Товуя разбросаны поля и фермы, сенокосные угодья, лесоповальные участки, рыболовецкие пункты… Ничего путного из этого, конечно, не получается, одна только вредная канитель, особенно для бойцов здешнего дивизиона.
Раньше для них тут была служба не бей лежачего. Обязанности конвойных бойцы несли больше формально. Примешь, скажем, полевую бригаду на разводе утром, проводишь ее к полям за поселком и: «Разойдись по местам!» Зэки разбредутся по своим работам, а ты идешь себе к казарме и делай что хочешь до вечера. А в конце рабочего дня приведешь зэков на место сбора – все они, конечно, уже там – и: «В лагерь шагом марш!» Вот и вся работа, если не считать постов на вышках. Но их тут всего две. Ну а теперь по милости этого Повесь-чайника, черт бы его побрал, приходится в любую погоду целый день и в поле, и в лесу торчать рядом с заключенными.
И ведь забота-то у нового начлага вовсе не о том, что заключенные могут куда-то убежать! Бежать с Колымы некуда. Кругом, как говорится, вода, а посередке беда… Но беда эта для заключенных здесь куда меньше, чем в других местах. Почти все они мечтают весь срок отбыть в сельхозлагере да и потом здесь остаться, даже при тех порядках, которые наводит сейчас нынешний начальник лагеря. Впрочем, считалось, что Повесь-чайник слишком многих восстановил здесь против себя, чтобы долго продержаться.
Больше половины здешних заключенных – женщины. Зэки-мужчины чуть не сплошь совсем уж пожилые или инвалиды. Молодых мужиков, после того как они немного оправятся после горных, здесь не держат, если у них тяжелая статья и длинный срок.
Главная забота у нынешнего начальника о другом. Он хочет сделать так, чтобы здешние лагерные мужики и бабы не могли любовь крутить ни между собой, ни тем более с вольниками из поселка. Ее, конечно, крутили и крутить будут. Но раньше, если кто-нибудь из заключенных горел на этой любви, то спроса с его конвоира не было. Даже если допустить, что охранник и находится при своих подконвойных, разве может он уследить за всеми в поле, пересеченном заросшим тальником, речушками и протоками, изгородями, защитными кустарниковыми насаждениями, канавами? Но теперь Повесь-чайник сам неслышно и незаметно бродит по окрестностям, как кот, высматривает, не шмыгнула ли какая пара в кусты. Во всех бригадах он завел стукачей, которые ему докладывают, кто с кем уединяется и какой из конвоиров этому попустительствует. На бойца накладывает взыскание, а некоторых уже отправил отсюда в дивизионы горных лагерей. Прежнего командира здешнего дивизиона по рапорту того же начлага сместили. Теперь какой-то новый, во всем согласный с Повесь-чайником молокосос Новая Метла. Вдвоем они наводят тут и новые порядки. Скоро, видно, доберутся до всех бойцов, которые служат здесь сколько-нибудь давно. Его, Гизатуллина, тоже прислали для замены одного парня, которого заподозрили не только в попустительстве по отношению к женщинам-уголовницам, но и в связи с одной из них. Новичок, конечно, тут ни при чем, его дело служить, где скажут…
Но разговоры о Повесь-чайнике, Новой Метле на должности командира здешнего дивизиона и новых порядках были далеко не главной темой в казарме галаганских вохровцев. Гораздо охотнее бойцы говорили о здешних лагерницах-блатнячках, составлявших, по их определению, около третьей части всех женщин-заключенных в местном лагере. Из-за них-то и горел главным образом сыр-бор. Правда, основную массу хлопот и неприятностей лагерному начальству и конвою доставляет только небольшая часть этих женщин. Но возни и хлопот с кучкой отчаянных баб больше, чем со всеми остальными заключенными здешнего лагеря, вместе взятыми. «Ну и оторвы!» – крутили головой вохровцы, но с таким видом, что понять, возмущаются или восхищаются они поведением этих баб, было невозможно.
Тема об оторвах казалась неиссякаемой. Обычно в разговоры о них вступали все, кто оказывался поблизости. Правда, говорили вполголоса, озираясь по сторонам и часто давясь от смеха. Прежде Файзулла и вообразить себе не мог большей части того, о чем узнавал теперь. Он счел бы всё это выдумкой или, по крайней мере, крайним преувеличением, если бы еще кто-нибудь удивился услышанному. Но рассказы о подвигах и непристойных выпадах блатнячек воспринимали здесь как нечто самое обыкновенное и разве только более обычного смешное. И никто поведением женщин особенно не возмущался, даже те, кто в результате очередного фортеля неуемных и развратных баб сам получал крепкий нагоняй, а то и обещание быть отправленным отсюда к черту на кулички.
Почти все рядовые вохровцы здесь были холостяками. Возможность обзавестись семьей для подавляющего большинства бойцов на Колыме оставалась чисто теоретической. Такие места, как галаганский совхоз и еще два-три таких же, на громадной территории Дальстроя были лишь островками среди океана здешнего «безбабья».
Незаконная связь вольнонаемного с лагерницей, хотя формально считалась преступлением, рассматривалась обычно только как проступок с его стороны, если вольняшка был гражданином, так сказать, второго сорта, тоже отбывшим срок в лагере. Если же он в заключении не был, то такая связь накладывала серьезное пятно на его политическую репутацию, особенно если это была связь с контричкой. Для членов партии и комсомола она влекла за собой безусловное исключение из этих организаций. Бойцу ВОХР такая связь угрожала судом военного трибунала. В лучшем случае, если вохровское начальство с немалым риском для себя решало дело до суда не доводить, провинившегося отправляли в такую дыру, благо в Дальстрое всяких дыр было не счесть, где, по ходячему здешнему выражению, десять лет ни одной живой бабы не увидишь.
В результате всех этих уродливых искажений жизни, воможности удовлетворения полового инстинкта для сытых, здоровых и почти бездельничающих вохровцев-холостяков в Галаганных почти не было. Близость распущенных, отчаянно сквернословящих, в принципе более чем доступных и всё же остающихся запретным плодом женщин, конечно, разжигала эти инстинкты и усиливала обычную казарменную тягу к скабрезным историям. В их выдумывании тут необходимости не было, похождения местных блатнячек чуть ни ежедневно давали более чем достаточно пищи для подобных историй.
Оказалось, что здешние бойцы давно привыкли ко всяким шуточкам и выходкам своих подконвойных даже в собственный адрес. И добро бы только к скабрезным. Нередко они были и по-настоящему оскорбительными. И конвоиры это не только сносили, но и сами отвечали бабам непристойными шутками, конечно, только тогда, когда поблизости не было начальства или посторонних. За сотую долю того, что бойцы прощали женщинам, каждый из них избил бы прикладом заключенного-мужчину или подал на него рапорт за нарушение в строю дисциплины. Файзулла этого понять не мог, так же как и терпимости своих новых товарищей к здешним порядкам вообще. Лагерь должен быть лагерем. В душе он был вполне согласен с намерениями нового начальства, которое именно за это так здесь невзлюбили.
И уж совершенно за пределами понимания деревенского парня из магометанской семьи была терпимость бойцов к падшим женщинам. Мужчине сносить оскорбления от какой-нибудь воровки или проститутки, твари, которая и права жить на свете не имеет?! Файзулла слушал рассказы о здешних бабах хмуро и неодобрительно. А однажды, прослушав чей-то рассказ о том, как одна из его подконвойниц под хохот остальных, раздевшись до пояса, дразнила его великолепной грудью: «Эй, гражданин боец! Слабо поцеловать, а?» – он не выдержал: «Чего слушай? Стрелять таких надо!»
Все перестали смеяться и уставились на Гизатуллина как на дурака. Гляди, какой шустрый выискался! Здесь, если на каждый бабий выкрик стрелять будешь, патронов не напасешься! Вслух тогда никто ничего не сказал. Но после этого замечания строгого татарина разговоров при нем о бабах больше не велось. Дурак нередко оказывается еще и стукачом.
А свои люди в казарме ВОХР у нового командира здешнего дивизиона, наверно, были. Во всяком случае, оказалось, что о настроениях своего нового бойца, уже несколько дней несшего дежурство на лагерной вышке, он знает. Выслушав от Гизатуллина обычное: «Явился по вашему приказанию, товарищ младший лейтенант!» – командир дивизиона поднялся ему навстречу, подал рядовому бойцу руку и пригласил сесть. Затем он сказал, что возлагает большие надежды на вновь прибывающих бойцов, прежде всего на таких, как товарищ Гизатуллин, по части укрепления дисциплины в своем отряде и восстановления режима в здешнем лагере.
Особенно скверно обстоит дело с режимом в женской штрафной бригаде. В таких бригадах он должен быть достаточно жестким, иначе перевод в них нарушителей установленного порядка теряет всякий смысл. Но если у мужчин-штрафников некоторый порядок навести уже удалось, то в бригаде самых отъявленных здешних нарушительниц особыми достижениями покамест похвалиться нельзя. Всё из-за попустительства здешних бойцов, которых приучило к этому их прежнее начальство. Они привыкли смотреть на обязанности конвоиров почти как на пустую формальность. Позволяют, например, штрафным, которые должны сидеть на урезанном хлебном пайке, получать передачи от своих дружков на поселке. Случается, что такие «не замечают» даже свиданий своих подконвойниц с мужчинами. Некоторые – тут командир понизил голос – и сами подозреваются в связях с заключенными женщинами. Такие, конечно, откомандировываются отсюда, хотя некоторых из них следовало бы, пожалуй, отдать под суд.
А вот в твердости и принципиальности товарища Гизатуллина командир дивизиона уверен. Он не сомневается, что это и есть тот человек, который необходим тут для конвоирования женской штрафной бригады. В этом командира убеждает и личное впечатление от нового бойца, и его служебное дело. Принять свою бригаду ему надлежит уже завтра, на утреннем разводе.
Но, уже разыскивая разводящего, он как-то засомневался в почетности полученного сейчас поручения и почувствовал, что предпочел бы ему любое другое. Трудно было отделаться от впечатления, что вооруженному мужчине почти зазорно охранять женщин. Такому настроению Гизатуллин пытался противопоставить всё сказанное младшим лейтенантом и собственное убеждение в том, что здешних блатнячек надо как следует одернуть. Он их поставит на место, этих избалованных попустительством прежних конвоиров преступниц, забывших, что они несут здесь наказание за свои скверные дела! И притом гораздо меньшее того, которое заслужили. Гизатуллин не сомневался, что закон по отношению к ворам и прочей шпане слишком мягок.
Громче и пронзительнее голосов женщин в лагерном карцере, по-блатняцки – кондее, был, наверно, только гвалт птичьего базара на прибрежных скалах в устье Товуя. Если в этом шуме и можно было различить иногда отдельные слова, то почти все они относились к разряду самых «последних» или весьма близких к ним. Женская штрафная бригада готовилась к выходу в лагерную столовую и оттуда на развод. Уже около двух недель эта бригада в полном составе была выселена из общего барака в женской зоне и водворена в кондей.
Эта изоляция самых отчаянных здешних отказчиц и потаскушек от их окружения не только на работе, но и в зоне была, наверно, самым чувствительным ударом, который нанес им новый начальник лагеря. Повесь-чайник планомерно разрушал одно за другим все преимущества галаганского сельхозлага, создавшие ему славу «зэковского рая» от Охотского моря до моря Лаптевых.
За отказ от работы и связь женщин с мужчинами накладывали, конечно, взыскания и прежние начальники. Но что это были за взыскания? Три, от силы пять суток кондея с выводом на работу. Блатнячки смеялись, что им всё равно где работать, лишь бы ничего не делать. Наказанных карцером уводили в него только после отбоя, да еще разрешали захватить с собой одеяло и подушку. А что касается штрафного пайка для отказчиц, то он отражался разве что на бланках котловок в лагерной бухгалтерии. Не только опытные сердцеедки, имевшие многочисленных дружков и среди лагерных придурков, и на поселке, и даже в отряде ВОХР, но и те, что честно вкалывали за начальничкову пайку, никогда прежде здесь не голодали. Даже когда появился этот чертов Повесь-чайник и основательно прижал заключенных по всем статьям, его реформы почти не отразились на благополучии лагерных шмар. Тогда самых активных из них выделили в особую бригаду и взяли под конвой. Возможность уединиться с кем-нибудь из богатых клиентов для них резко снизилась. Но те помнили счастливое прошлое и надеялись на лучшее будущее. Поэтому некоторое время продолжали носить своим подружкам и их товаркам гостинцы на то место в поле, где они «откатывали вручную солнце» или разгоняли по этому полю дым от костра. Повесь-чайник ответил запретом не только принимать передачи на месте работы, но и подходить посторонним на винтовочный выстрел к тому месту, где находилась штрафная бригада. Но он не мог конвоирам запретить смотреть как раз в другую сторону, когда какой-то случайный прохожий ронял невдалеке от этой бригады пакетик или узелок. Узелок непременно заваливался в кустик или под кочку, и женщины так же случайно находили его через несколько минут, чего конвойный опять не замечал. Но самых покладистых из бойцов начали переводить на другие посты, а некоторых и вовсе угонять отсюда: по-видимому, в бригаде завелись стукачи. Тех, которые их сменили, благодетельная конвоирская слепота уже почти не посещала. Бригадницы, правда, продолжали еще находить иногда под кустами свертки со съестным. Но теперь и впрямь только тогда, когда конвоир зазевался. А главное, эти свертки становились всё более редкими и тощими. Бывшие клиенты из вольных почти уже потеряли надежду на поставку женской любви из лагеря в сколько-нибудь определенном будущем.
Место булок и масла в рационе лагерных красючек всё больше занимали хлеб-чернушка и суп из общей тошниловки. Да и то при условии, что кто-нибудь из придурков сумеет обмануть бдительность дежурного надзирателя. Блатнячки уже не швыряли на глазах у начальства свои «трехсотки» в угол. Многие из них впервые за свой срок начали по-настоящему ощущать голод. Особенно после того, как из общего барака штрафниц отселили в карцер. Ходить по лагерю им теперь совсем не разрешалось. Столовую для получения своего скудного рациона они посещали под конвоем надзирателя только всей бригадой и только когда там никого больше не было.
Для галаганского лагеря подобная изоляция большой группы заключенных была новостью, хотя почти всюду в других местах она являлась обычной принадлежностью режима. Для этого служили БУРы (бараки усиленного режима), находившиеся в особых зонах и особо охраняемые. Здесь БУРа не было, и это упущение сейчас наверстывалось срочным строительством двух БУРов, мужского и женского.
Штрафники теперь даже хотели, чтобы строительство поскорее закончилось. В бараках будет хоть попросторнее, чем в тесных камерах изолятора, как официально именовался лагерный карцер. Мужскую штрафную бригаду угнали, правда, на далекую лесную командировку. Женщин отправить было некуда, и после ночи, проведенной в тесноте и духоте кондея, они толкались в узком проходе между стеной и нарами, мешая друг другу и отчаянно матерясь по всякому поводу и без повода.
Женщины-уголовницы сквернословят гораздо больше, чем самые заядлые матерщинники-мужчины. Это один из способов проявления лихости и принадлежности к блатной касте.
Ругань и сквернословие среди блатных женщин сами по себе еще не служат признаком особого раздражения и дурного настроения. Но сейчас в штрафной бригаде было и то и другое. Ощутимо сказывалось голодание, ночи, проводимые в тесном карцере с его клопами и парашной вонью, скучное торчание в поле с раннего утра и до позднего вечера без возможности даже перекликнуться с каким-нибудь мужичонкой. Поэтому в обычно бессмысленной ругани блатнячек теперь часто слышалась и неподдельная злость, переходившая иногда не только в ссоры, но и в драки.
Штрафницы торопились. Вот-вот должен был явиться надзиратель, чтобы отвести женщин в лагерную столовую за получением начальничковой трехсотки и миски супа, в котором «крупина за крупиной гоняется с дубиной». Теперь этими дарами лагеря они отнюдь не пренебрегали. После столовой под наблюдением того же надзирателя бригаду вели на развод и ставили в самый хвост. Штрафницы выходили на работу последними.
Из всей бригады не проявляли никакой суетливости только две женщины, и в остальном совершенно непохожие на всех других. Они встали и умылись раньше прочих и теперь сидели рядышком на краешке нар, старая и очень молодая. Пожилая, крестообразно сложив на коленях загрубелые руки, что-то шептала тонкими бескровными губами. Молоденькая сидела потупясь, как будто разглядывая свои огромные, совсем не по размеру ее маленьких ног, грубые лагерные башмаки.
– Эй, святые! – крикнула дородная, полуголая, густо татуированная девка с пышной грудью, которой другая сливала над парашей воду. – Как думаете, будет мне на том свете скидка за эти титьки? Без греха ведь с такими всё равно не проживешь?
Это была Анюта Откуси Ухо, лихая, веселая и остроумная баба. Кругом визгливо захохотали.
Старуха продолжала неслышно что-то шептать, молодая потупилась еще больше.
– Не мешайте святым молиться! – сказала маленькая и чернявая блатнячка, лицом и быстрыми, вихлястыми движениями чем-то смахивающая на обезьянку. – Может, они своего бога молят, чтобы он нам жратвы мешок и вот таких мужиков послал… – Чернавка сделала непристойный жест. Смех стал еще грубее и громче.
– Гляди, Макака, вот скажу Богине, что ты святых обижаешь, она те чертей пропишет! Не посмотрит, что ты у нее шестеришь… – Лицо и губы у Бомбы были пухлыми и казались надутыми, как у обиженного ребенка. Но ее глаза смотрели решительно и мрачно. Невысокая, по-мужски широкая в плечах, она и в самом деле отличалась редкой для женщины силой. А главное, Бомба обладала решимостью и незаурядной смелостью, доходящей подчас до отчаянности. Эти качества в сочетании еще с предприимчивостью сделали ее одной из главных заводил женской части галаганской хевры. За это ей прощали даже нетерпимую для законницы, то есть профессиональной уголовницы, строго соблюдающей неписаные законы и традиции воровского общества, любовь к вохровскому солдату. Тем более что за эту любовь бывший конвоир женской штрафной бригады был очень покладистым и по отношению ко всей этой бригаде. Никто из блатных, конечно, слыхом не слыхивал, ведать не ведал, что там было у Бомбы с ее вохровцем. Но с неделю назад его перевели на другой пост, потом с попутной баржой и вовсе отправили куда-то далеко отсюда. Для бригады это было большой бедой, так как охранников теперь меняли чуть не каждый день, они, видимо, были порядком напуганы, и получать гостинцы от вольняшек удавалось лишь изредка и с трудом. Бомба же переживала разлуку со своим любовником и вовсе тяжело. Как всегда, это выражалось у нее в виде повышенной агрессивности и склонности лезть в драку. Теперь вот взяла под защиту «святых», до которых, вообще говоря, ей не было дела.




