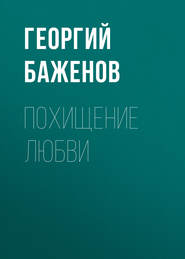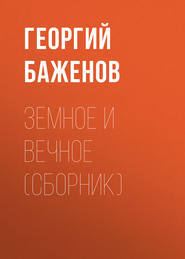По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Бабушка и внучка
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я после первого боя в госпиталь попал. Контузия… Как раз в госпитале письмо получил: накрыло их бомбой. Самое страшное, дочку совсем не помню… как будто и не было ее никогда, страшно это. А жена, Валя… жена до сих пор стоит перед глазами как живая, иногда даже снится, я ей говорю: «Валя, Валя…» – а она вот так вот… рукой машет, до свиданья, мол, прощай… Глаза открою, ничего нет, один…
И вот – почувствовала она – не только хорошо ей показалось здесь… в одном углу три кресла, столик, в другом, смежном, – письменный стол, настольная лампа, разбросанные бумаги, журналы, книги, рядом – кровать темного коричневого дерева, напротив – такого же цвета шкаф с зеркалами, хорошо видно, как они сидят, пьют чай, тени там шевелятся тускло и размыто… и свет такой домашний… – не только это теперь имело для нее значение, а и то еще, что она вдруг всем сердцем своим пожалела его. Столько лет в таком одиночестве, с такой болью, с такими воспоминаниями… а ведь человек, казалось бы, такой невзрачный на вид, рыжеват, лысоват, крупный пористый нос, глаза как бы все время чего-то стыдящиеся, руки нервные, а на работе… Господи, на работе смотрят на него… как бы это сказать помягче… смотрят как на дурачка, как на пришибленного слегка, не понимают, что за радость для него такая – день и ночь на аглофабрике, а для него действительно, может, это радость и есть, успокоение, отдохновение; если ты один и идут годы, то жить с каждым годом сложней, ты один, а чтобы не быть одному, тебе нужен верный, какой-нибудь удивительно справедливый, удивительно сердечный человек, чтобы без слов понял и разделил с тобой горечь прошедших лет, а таких… где они, такие люди? И такую острую жалость к нему ощутила она вдруг в себе, что испугалась за себя… ей было не восемнадцать все-таки лет, и она знала, что это значит, если в женщине вдруг проснется жалость к мужчине…
– Ох, поздно уже, – сказала она. – Надо домой бежать, как там Маринка у меня… – Она сидела в кресле, а руками делала какие-то суетливые движения: чашку переставила с места на место, пирожное пододвинула к себе и сразу же отодвинула.
И тут он посмотрел ей прямо в глаза, и она не успела избежать его взгляда, а раз так, то тоже посмотрела ему в глаза, и ее не то что поразило, а потрясло, когда она наконец разглядела, какие же у него глаза: глубоко-глубоко умные, грустные, а на дне – боль, но главное – умные. И в ту же секунду она поняла, что ему нужно совсем не то, что нужно было бы любому мужчине от нее в подобной ситуации, что это у него гораздо искренней и сложней… и внутри у нее все задрожало – от волнения, радости, даже счастья, что ли, – когда она узнала это, узнала, что она внушает этому человеку с умными-умными глазами (вот он говорил: люди могут работать вместе и знают как будто друг друга, а если вдуматься… Теперь она почувствовала, познала его до конца, теперь она могла сказать: я знаю этого человека…) – она внушает ему надежду на возможность собственного счастья, – или она ошибается? Не может быть…
– Паша, – сказала она и не узнала своего голоса. – Паша, – повторила она и взяла его руку в ладони. – Паша, с тобой… неплохо, с тобой хорошо… – Она чуть помедлила. – Ты хороший, Паша… но… мне нужно идти. Мне нужно идти, – повторила она и поднялась с кресла.
Он опустил голову и какое-то время сидел вот так – с опущенной головой, а она стояла рядом, уже отпустив его руку, рука его безвольно лежала на столике, и в этом тоже было что-то такое, что не передашь в словах, что дается только в чувстве – в этом тоже была близость.
– Ну что ж, – сказал он. – Все правильно… Прости.
…Она пришла домой, Маринка спала не в своей кроватке, а вместе с Сережей на диване, Марья Трофимовна подсела к ним, в окно била яркая луна, Маринка обняла во сне Сережу рукой, уткнулась носом в его плечо; Марья Трофимовна и не старалась сдерживать слез, это уже ничего не значило – можно ведь улыбаться и сквозь слезы…
5. Отец и мать
Картошку Марья Трофимовна посадить вовремя не сумела – подзапустила домашние дела, на аглофабрике работы было невпроворот. Огород, правда, они с Сережей перекопали давно, сразу после Майских, а вот картошку сажать она вышла в последних числах мая – смех и горе, если сказать кому. Но хоть и смех, а сажать все равно надо. Марья Трофимовна рассыпала семенную отборную картошку в три мешка, вытащила из погреба, очистила тщательно от ростков, разрезала средние клубни пополам, а те, что покрупнее, – на три, на четыре части. Потом лопатой проходила один ряд – засыпала первый ряд, а в следующий из тазика снова укладывала в лунки картошку, ростками вверх. Это была однообразная, но все же хорошая работа – хотя и долгая, утомительная. Хорошо вот еще, помощница какая-никакая, а все-таки уже подросла. Сопя и тужась, Маринка брала из тазика картофелину за картофелиной и «сажала» в лунки – старательно, аккуратно; получалось у нее хорошо, только медленно, и очень быстро она уставала. К тому же перемазалась вся, черная была от земли, как цыганенок. Марья Трофимовна усмехнулась, взяла Маринку под мышки, отнесла к умывальнику, вымыла ее хорошенько, принесла в дом, сменила на ней платьице, подсадила к игрушкам:
– Играй. Мне некогда.
– Хорошо, баба. Только ты быстрей.
– Ладно. Я быстро постараюсь…
Было воскресенье; мимо огорода по тротуару шли и шли люди – одни празднично одетые, по-воскресному веселые и беззаботные, другие – обычные, как всегда, как изо дня в день.
Но и те и другие невольно обращали на нее внимание, а реагировал на ее работу каждый по-своему; но ей не было сейчас никакого дела ни до кого, Бог со всеми, раз надо, значит надо. С утра наказывала Глебу, чтоб помог, но где там – из-за стола вылез, только его и видели. Яхты, конечно, дело красивое. Посмотреть приятно, как они по воде идут. Но вот чтоб матери помочь, это ему и в голову не приходит. У него один ответ: «Нам лошадь пахать не нужна. У нас мать есть…» – «Сколько же на материной шее сидеть будете?» – «Для матери дети – до старости дитяти. Так?» – «Зубоскальству-то научились. А вот…» – «Спрашиваешь! Кто кого родил: ты меня или я тебя? И потом, мамка, не забывай: мать – это звучит гордо!» – «Вырвать бы вот тебе язык-то…» – «Спрашиваешь!» И вот так всегда – на каждое слово готов ответ, где сядешь, там и слезешь; бог его знает, откуда это все в современной молодежи, вроде парень как парень рос, а вырос – ну вот бы раздавила его иной раз, и сердце не дрогнуло бы. Куда уж дальше? И в то же время любишь его, паразита: есть в нем удальство какое-то, независимость, сила, есть что-то даже привлекательное в его бесстыдно-откровенном цинизме и нахальстве; иной раз даже покажется, что прав он в чем-то: ну вот к чему она гнет всю жизнь спину? Кто оценит? Только посмеются, может… Или вообще никогда не вспомнят. В том и другом – хорошего мало… Был бы вот Степан, тот бы помог, конечно. Степана хлебом не корми – дай поработать: чтоб до пота, до изнеможения. Помнится, он тем ей и понравился: работящий, на отца ее похож; даже больше, пожалуй: в отце любовь к труду размеренная, спокойная, постоянная, а в Степане – неистовая, неистощимая, он уж если в шесть утра начнет работать, то может до ночи спины не разогнуть, и хоть бы хны ему, только улыбается… Марья Трофимовна, смахнув с лица пот, сама сейчас улыбнулась, вспомнив эту удивительную работоспособность и в то же время поразительную непритязательность мужа. Только бог его знает, что с ним случилось… то ли командировки его испортили, то ли еще что, но поутих Степан в последние годы и начал, кажется, гулять. Откуда, почему? – черт его тоже знает… Полной уверенности, конечно, нет, но сердце чует – это правда; болтают иной раз люди за спиной такое, что уши начинают гореть. Не за себя стыдно – за себя больно, стыдно за Степана, что на старости лет говорят о нем, как о молодом кобеле. Ну вот где он болтается который уже день? Которую ночь? Тому, чему она раньше верила: что работы на стройке по горло, а работают за пятнадцать километров, приходится до ночи на экскаваторе вкалывать, а потом сил возвращаться домой уже нет, и прочая подобная ахинея, – этому всему она уже не верила. Ведь знает, что огород дома не сажен, что трудно ей сейчас – побаливает что-то голова, а все равно не торопится домой. Неужто в самом деле завел кого на стороне? Трудно поверить, а главное – не хочется верить…
– Бог в помощь!
Марья Трофимовна обернулась и, смахивая тыльной стороной руки капельки пота с лица, улыбнулась чистой, искренне радостной улыбкой:
– А, это ты, папа! Здравствуй!
– Открой калитку-то. Чего закрыла? Подошел, туда-сюда, не могу открыть-то…
– Да это я закрыла, чтобы… – Марья Трофимовна бросилась во двор, отперла проворно ворота. – Закрыла, чтобы кто чужой не зашел… Маринка в доме одна, еще напугается.
– Вот коза, не боится уже одна дома сидеть? Молодец… В помощники берешь?
– Да от тебя разве отобьешься? Рада бы сказать – нет, да знаю тебя.
– Ну то-то…
Из всех людей на свете больше других любила Марья Трофимовна своего отца; и совсем не потому, что он – отец, хотя и поэтому, конечно, тоже, а потому – что это был самый человечный, самый справедливый, самый честный, прямой и необыкновенный человек. Было ему за семьдесят; худой, жилистый, крепкий, с умными, глубокими, молодыми какими-то глазами – молодыми, пожалуй, из-за усмешки, которая, казалось, таилась в его проницательных глазах, – отец был для нее примером во всем. И все лицо его – доброе, родное, чистое, хотя и покрытое сетью морщинок, пергаментно-спокойное лицо мудрого старика – излучало всегда свет и радость для нее. Марье Трофимовне становилось уютней, спокойней, когда рядом был отец, и в то же время ей всегда хотелось, как будто она была еще совсем-совсем маленькой, понравиться отцу, угодить ему чем-нибудь, вызвать к себе ответное чувство любви, которую она с такой силой испытывала к нему. Он все это, казалось, понимал и часто слегка как бы насмешливо-иронично подтрунивал над ней… Это была своеобразная игра, и игра эта нравилась им обоим.
Они прошли на огород, отец взялся за лопату, деловито, размеренно проходил ряд за рядом, а Марья Трофимовна, держа таз на весу, глазками вверх бросала клубни в лунки, и эта совместная, в одном ритме, в постоянном темпе работа была очень им по душе – им всегда нравилось делать что-нибудь вместе, сообща. В детстве, девчонкой, Марья Трофимовна иной раз на сенокосе лезла чуть не под косу отца, так он ее завораживал тугими, хлесткими движениями своей острой сабли-косы, – мягкая, влажно-сочная трава со стоном ложилась под отцовской литовкой, а он уходил все дальше, дальше, и фигура его, уходящая, врезающаяся в море высокой, как лес, луговой травы, навсегда осталась в ее памяти.
Когда отец уставал, он останавливался, опирался на косу и, подмигивая, спрашивал: «Ну, чего, Марийка? Косой охота помахать, а?» Марийка кивала, но боялась подойти поближе – отец ругался, если кто лез, как ему казалось, под косу. «Подрастешь малость, попробуешь…» – обещал он, брал Марийку на руки и уносил на копну; посадит наверх, скажет: «Уминай получше. Все помощь…» – и уйдет. А Марийке слезть хочется, но страшно… вот она сидит, сидит, смотрит вокруг и горестно вздыхает…
– Помнишь, как сенокосили, а, пап? – улыбнулась Марья Трофимовна.
– Сенокосили-то? – Отец воткнул лопату в гряду, присел на ведро в борозде, достал махорку. Усмехаясь, свернул «козью ножку». – Ну а как же, помню, как не помнить… – И выпустил густо-сизую струю дыма. – Ведь вот тоже, а? – усмехнулся он. – Что за дело, кажется… А смотри, помнишь. И я вот тоже… Я-то помню еще, как с отцом косили, да и деда помню… У-у, страшнова-а-ат был дед, борода – лопата, пенится, деготь с проседью. Уж мы его боялись! Бывало, если что, мать грозится: «А ну как дедулю чичас крикну?!» Мать-то моя, твоя бабка, не «сейчас» говорила, а «чичас»… Да ведь и то, время было какое, древнее было время…
– Да уж ты-то, наверно, не больно боялся, а, пап? – усмехнулась в свою очередь Марья Трофимовна.
– Боялся. Как не бояться, дед был видной. С Демидовыми мужик работал, хватка ихняя была, демидовская… Что не по нём, хребет ломал надвое… Не то что мы, сопливые, и не вспомнишь никого, кто бы не боялся его. Крутого нрава был дед, крутого…
– Пап, я что хотела спросить-то тебя… Вы когда с мамой сошлись, так она…
– «Сошлись»! – усмехнулся отец. – Это по-нонешнему – сошлись, а тогда папаня привел Настёху: вот тебе жена и баба, смотри у меня, сукин сын! – Отец хрипловато, старчески, но весело рассмеялся. – У меня тогда и женилка-то еще не выросла, что к чему – и не кумекал. Папаня из бедных приглядел, чтоб батрачила. Не упомню вот точно, но как будто лет пятнадцать ей тогда стукнуло. А может, и того не было… Семья-то у папани агромадная народилась, всех обстирать, накормить, напоить – Настёхина забота была. Это уж после революции, ну да, после, отделились мы с ней. А так – батрачка была… Да, была Настёха батрачка…
– Как хоть мама-то себя чувствует?
– Да как… годы здоровья не прибавляют. Зашла бы, попроведовала.
– Сам видишь, пап, запарилась я… В голове от забот звон стоит. Да еще вот огород. Да работа. Да Маринка. Да и те еще лоботрясы.
– Я и говорю, попроведовала бы… Сорок девять годков, как мы с матерью-то прожили…
– Да ты что, пап?! – всплеснула руками Марья Трофимовна. – Господи Боже мой, да как же это я забыла?! Ах ты, Господи, ну совсем из головы вон… Вот дурные мы, вот головы худые… Ну, пап, не знаю, что и сказать…
– Ты руками-то не маши… а то взлетишь еще, – усмехнулся отец. – Давай закругляйся… Пойдем к нам, чаю попьем. Мать-то ждет, пирогов напекла.
– Чего ж ты молчал до сих пор? – заметалась Марья Трофимовна по огороду. – А ведь я все помнила, все помнила, с Серафимой еще договаривались, чтоб устроить вам честь по чести… А тут как раз случай этот… уж тут ни мне, ни Серафиме не вспомнить было… Но уж «золотую» мы вам устроим, такую устроим – тут уж вам не отвертеться.
– Ладно, не кудахчь попусту… Бери Маринку, да пошли. Мать-то заждалась, поди.
Марья Трофимовна быстро умылась, переоделась, собрала Маринку, и они втроем выходили уже за ворота, когда примчался откуда-то на велосипеде Сережка.
– A-а, дед! Привет! Привет, Мар! – Он хлопнул ладонью по вытянутой ладошке Маринки. – Как дела, как живете, как животик?! – пощекотал он ее.
– Где ты только носишься?! Сел бы лучше уроки поучил, чем лодыря гонять… Если уж мне не поможешь…
– Отстаешь от жизни, мамка! Учебный год давно закончился!
– Как закончился? – удивилась Марья Трофимовна. – А ведь и правда… С вами все на свете позабудешь, собственное имя – и то вспоминать скоро придется.
– Сергей, – сказал дед, – пошли к нам на пироги. И Глебу передай: дед приглашал.
– Ладно, дед. Только ему это до лампочки, пироги. Сам знаешь. Вот если б ты ведро браги поставил да тазик пельменей, он бы живо. А так…
Дед рассмеялся:
– Там посмотрим. Ну, лихие хлопцы растут – в отца, казаки. Ну и ну…
Мать встретила их у порога.