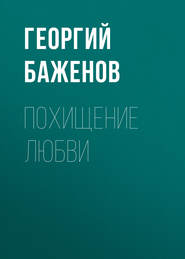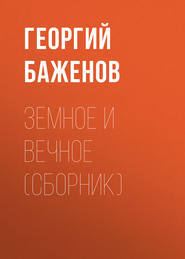По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Вариации на тему любви и смерти (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Проводил, естественно, только до двери. «Большего, конечно, не заслуживаю…» – подумала Надежда с горькой усмешкой. Снова взглянула на него – стояли у распахнутой двери, оба чувствовали неловкость прощальной минуты.
– К нам решил совсем не заходить?
– У тебя плохая память. Я бываю у вас каждую неделю. Не меньше двух раз.
– На прошлой неделе не был ни разу.
– Мама приболела.
– Понятно. Передавай ей привет! – Она насмешливо – специально насмешливо – улыбнулась. – Ну, бывший муженек, до свиданья, что ли?!
– До свиданья, Надя.
– Ого! В первый раз сегодня назвал по имени.
– Разве? Извини. Грубею.
– То-то! – Она улыбнулась – легко, широко, свободно, улыбкой женщины, которая не знает ни горечи, ни обид, ни поражений. Впрочем, вряд ли удалось обмануть Феликса – уж кого-кого, а ее-то он изучил за годы совместной жизни.
Дверь закрылась, Надежда сделала первый шаг по лестнице, лицо ее исказилось от внезапной гримасы, и крупные частые слезы покатились из глаз. Вышла на улицу – слезы побежали еще сильней…
Горькая обида давила ей сердце. Такая тяжесть на душе, такая безысходная тоска… И слезы… Сколько в них было сладости, праведности, как они омывали душу жалостью к самой себе: они терзали и мучали, но в них одних было сейчас утешение и успокоение…
Она шла по улице, плакала, никого не стесняясь и ничего не замечая… Феликс… Он всегда внушал ей мысль, что она сама во всем виновата, но она не умела, не хотела признать себя виновной. Виновата, что любила? Но разве бывает такая вина? Верней, разве справедлива расплата за то, что ты любила человека безмерно, без оглядки, как слепая, почти как сумасшедшая? Поначалу все было хорошо, он, она, его маленькая дочь, его стареющая больная мать… Все были вежливы, предупредительны, сама деликатность, сама воспитанность. И Надежда (ей было тогда двадцать лет!), так боявшаяся его семьи, его матери, его дочери, почувствовала: она родная здесь, ее приняли как самого близкого человека, Светлана – Светлячок – тянулась к ней, и не потому что забыла мать (как она могла забыть ее, ведь ей было тогда семь лет!), тянулась просто из естества своей природы, из дружеского расположения ко всем людям, особенно к тем, которых любил отец и которые любили его, тут не было никакого оптического обмана, все искренне, все правдиво, и Надежда чувствовала счастливую, даже несколько тревожащую душу благодарность Светлане за ее детское приятие, за непосредственность, за ласковый неподдельный щебет.
А Евгения Петровна? С ней тоже все обстояло нормально, во всяком случае, Надежда не испытывала никакой вражды с ее стороны, хотя, надо сказать, матери Феликса было нелегко; она искренне любила первую жену сына, переживала ее смерть так, что не раз сваливалась в постель – подводило больное сердце, однако жизнь есть жизнь, этим успокаивала и утешала себя Евгения Петровна, и нужно было во что бы то ни стало выкарабкиваться всем вместе из беды – в первую очередь ради Светланки, ну и ради Феликса, конечно, тоже. Разумеется, Евгения Петровна присматривалась к Надежде настороженно, ее пугала молодость новой жены Феликса, она искренне боялась, хотя и не показывала вида, что душой Надежда не совсем созрела, чтобы нести на себе неожиданное бремя матери-мачехи, – так оно и случилось, не нравилось ей и то, что Феликс с Надеждой чересчур влюблены друг в друга (но тут уж ничего не поделаешь), живут будто ослепленные. Эта взаимная ослепленность, считала мать, никогда ни к чему хорошему не приводит. Проходит время, и вдруг открываются глаза на то, кого так искренне боготворишь, – и что потом? – разочарования, обиды, ссоры, боль…
С чего началось у них? С чего – сказать трудно, а вот когда именно – ответить легче. Родилась Наташа – и почти сразу все изменилось, и изменилось не в семье, а в самой Надежде, в ее восприятии жизни, в том, какими глазами стала она смотреть на Феликса, на его дочь, на Евгению Петровну и какими – на свою дочь, на божественное чудо, какое даже и представить себе не могла раньше, не могла подумать, что так это все бывает в действительности – что-то самое родное, близкое, любимое, необыкновенное, чем все на свете должны восхищаться и восторгаться. Впрочем, так все и было, разве кто-нибудь не восторгался, не говорил Надежде самых лестных, самых добрых слов? Их, может быть, говорили даже чересчур много, хотя Надежда этого не замечала, для нее казалось естественным – ее дочь просто чудо, посмотрите, какие у нее глаза, нос, какие кудряшки завиваются на затылке, а какие пухленькие ноги, какие тонкие пальчики, как симпатично она зевает, как жадно берет грудь, как потешно пыхтит… Кто не знает, впрочем, всех этих умилений матери ребенком? В этом-то, случается, и драма, как вот, например, с Надеждой… Вдруг в сердце ее – непонятно как, откуда, почему – проснулась ревность… Да какая ревность! Надежда не могла спокойно видеть, как Феликс, скажем, ласкает Светлану (улыбаясь, гладит ее волосы), когда Надежда кормит грудью Наташку… Или не выносила, если Светлана ластилась к отцу, в то время как рядом, в детской кроватке, так мило и забавно – разве они не видят? – сучит ножками Наташа. Почти с ненавистью наблюдала Надежда и за Евгенией Петровной, когда та, к примеру, в хорошем веселом настроении, прибираясь в квартире, не один раз проходила мимо стола, на котором Надежда пеленала дочь, но ни разу не остановилась, не сказала: ой, какая красивая у нас девочка, какая умница, как выросла за последнее время!.. Все знаки внимания, которые, как обычно, оказывали друг другу Феликс, Светлана и Евгения Петровна, вдруг стали ненавистны Надежде, воспринимались ею как личное оскорбление. Поначалу Надежда пугалась собственных чувств, внутреннего раздражения, укоряла себя за глупость, за нелепость несправедливых мыслей, испытывала в душе растерянность, а то и искреннее раскаяние, но со временем Бог знает куда исчезла эта внутренняя борьба, истаяла, улетучилась, будто и не было ее там никогда. Надежда напоминала нахохлившуюся птицу, которая, даже когда ее не обижали, а наоборот – подходили погладить, приласкать, вдруг еще больше цепенела, как будто изначально не верила в человеческую доброту, раз и навсегда разуверившись в ее естестве и наличии.
Случилось то, чего так боялась Евгения Петровна: между Светланой и маленькой Наташей встала, как пропасть, эгоистичная материнская любовь Надежды к своей дочери.
Ну, и начались, конечно, первые ссоры, первые недоразумения…
А кончилось все вот этим – полным крахом.
…Она шла, плакала от всех этих мыслей и воспоминаний и наконец устала от слез, от бесконечного душевного самоистязания; остановилась, вынула платок из кожаной, с плетеными ремешками сумки – подарка Феликса на Восьмое марта, горько усмехнулась, вытерла глаза; тут кстати оказалась скамейка. Надежда присела на краешек, достала зеркальце, тушь, кисточку, тени, привела в порядок ресницы и веки. Улыбнулась. Странно, она вдруг сама понравилась себе – глубокий, страдающий взгляд, грусть, синие печальные веки, длинные темные ресницы, – Господи, подумала невольно, если бы я была мужиком, разве бы устояла, разве могла бы не влюбиться в такую женщину?.. И, улыбнувшись во второй раз, еще больше понравилась себе, стало на душе вдруг легко и беспричинно весело – сколько раз в жизни удивлялась она этим резким переменам в собственном настроении: то хоть в петлю лезь, а то колокольчиком зазвенишь. И главное – почти в одно и то же время…
Посидела Надежда немного на лавочке, отдохнула, успокоилась, повеселела; если б не на работу, в этот гнусный отдел, может, и совсем легко стало бы на душе. Впрочем, что она переживает, совсем скоро она станет вольной птицей…
Вот что она забыла сказать Феликсу!.. Верней, сказать-то она сказала, что увольняется, но не сказала главного – ради чего, почему это делает. А ведь это, возможно, была тайная пружина, тайная мысль, из-за которых она отправилась к нему. То есть поговорить о Наташе – это да, но тайное-то, тайное… Она хотела как бы ненароком похвалиться перед ним, утереть ему нос, возвыситься над ним…
И что же? Опять, как много раз в жизни, разразилась словесная перепалка, и ведь забыла, забыла сказать, что не просто уходит с работы, а уходит в кино… Да, да! В кино? – удивился бы он и наверняка не поверил бы, ядовито усмехнулся: ну-ну, рехнулась совсем девушка на старости лет, что бы ни делать – лишь бы заливать, как всегда… А ведь это правда – она уходит в кино. Ну, не в актрисы, конечно (хотя актрисы что, из другого теста сделаны или, может, она хуже их сложена, не так привлекательна? Это еще как посмотреть!), но главное и не это сейчас, главное – войти туда, в тот заманчивый мир, заманчивый не просто потому, что – кино, а что – творчество, тут тебе не какой-нибудь замухрыжистый отдел с четырьмя дурами и одним идиотом во главе, здесь – всегда разнообразие, поиск, интересные люди, неожиданные встречи, интеллигентные разговоры, здесь мысль, блеск, новизна, одним словом – настоящая жизнь.
Что может быть привлекательней настоящей жизни? К чему стремятся все люди на земле, со всеми их явными и тайными помыслами? К настоящей жизни!
Конечно, Феликс всегда презирал и презирает компании, которые бывают у нее, считая всех подряд бездельниками и хвастунами. Но разве случилась бы с ней эта значительная перемена в жизни, верней – разве могла бы она случиться, если бы у нее не собирались компании? Однажды Надежда с Зоей возвращались с работы, дорогу им преградили два странных человека – прекрасно, даже изысканно одетые: джинсы, вельвет, замша, кожа, цветастые платки на шее; озорные веселые глаза, легкий юмор, шутки, смех, уверенные движения, но – самое главное – вот это: налет свободы, свободы во всем, что они делали, говорили, как смеялись, как шутили… А странность сцены заключалась в том, что в руках один держал трехлитровую банку, другой – бидон (все – с пивом), и, кривляясь, шутя, но оставаясь неизъяснимо изысканными, как бывает изыскан любой современный модный, уверенный в себе симпатичный нахал, они стали предлагать им выпить вместе – вот прямо сейчас, здесь, на улице. А что? Некрасиво?
У нас просто праздник, у нас гонорар, у нас деньги, девушки, о, у нас большие деньги, у нас даже хватило денег, чтобы купить шесть литров прекрасного пенистого пива, – и потом, мы встретили вас, вы такие симпатичные, умные, такие прямо родные, почти любимые, ну, кто из вас первой пригубит ядреного пивца прямо из банки?
Зоя, конечно, верная своему правилу ненавидеть не только этих нахалов, но вообще всех мужчин без разбору, тут же растворилась в пространстве: «Ты не идешь, нет?» Надежда, смеясь, ничего не отвечала, только радостно качала в отрицании головой, и Зоя растворилась, а Надежда осталась, познакомилась с ними. Оказалось – такие чудесные ребята, «киношники», как их нынче называют. Операторы. И не успели оглянуться, как уже были в гостях у Надежды, пили пиво, потом коньяк, черт знает что, такая вот смесь получилась…
А потом они познакомили ее с режиссером. С Владленом. И как-то Владлен сказал: хочешь в кино? О нет, не актрисой, а просто – работать в кино? Скажем, ассистентом директора, всякое там киношное хозяйство и прочее, хочешь? Она кивнула. Она хотела. Что угодно, только не ужасный этот отдел, где всегда одно и то же. Одно и то же…
Вот об этом обо всем она не рассказала Феликсу. Не успела. Не смогла. Да и трудно было рассказать так, чтобы выглядело все серьезно, хорошо, чтобы он поверил – это не шутка, не блажь, это нужно ей, иначе можно просто задохнуться от бесконечной череды ежедневной пошлости и однообразия…
Ну, а пока… А пока надо идти в НИИ. Хочешь, не хочешь, а денечки отрабатывать надо. Ничего не поделаешь…
Надежда поднялась со скамейки и решительно зашагала на работу.
Было двенадцать часов дня. Ровно полдень.
III. Мельниковы
За Андрюшку Татьяне не беспокоилась – вечером с ним посидит Наташа. Так уж у них повелось: когда надо, она всегда выручала Татьяну; к тому же Наталья была лучшей нянькой на свете, никогда не сюсюкала с Андрюшкой, а вела с ним себя так, будто они одного возраста, верней – будто Андрюшка давно взрослый и разумный. Удивительное дело, с Натальей он именно так себя и чувствовал…
…На опорный пункт они отправились сразу после работы. Их было шесть человек, молодых ребят с ткацкой фабрики, которые раз в неделю участвовали в рейдах оперативного отряда. Другие ребята помогали транспортной милиции – чаще всего на железной дороге, еще часть – занималась шефством над трудными подростками, некоторые специализировались на столовых, магазинах и кафе – помогали ОБХСС. Татьяна перепробовала все, но больше всего ей нравились оперативные рейды – самое живое и интересное дело… Сегодня им предстояло совершить «поход» на чердаки, в подвалы, заброшенные котельные, идущие под снос пустующие дома, где по вечерам собирались подростки тринадцати – шестнадцати лет, курили там, играли в карты, тискали девчонок, дрались из-за них, дрались просто так – в общем, полный букет вольной жизни.
Командовал отрядом (верней, координировал действия милиции и молодежного отряда) старший лейтенант Жиров. Для них, конечно, он был не старший лейтенант, а просто Сергей, даже Сережа. Моложавый, с узкой щеточкой бурорыжих усов, в веснушках, часто улыбающийся, Жиров поначалу многим казался этаким добрячком, мальчишкой, но, когда он выезжал на задание, облик его менялся, улыбка исчезала с лица, а вместо нее появлялось выражение сосредоточенности и даже угрюмости. И это имело свой смысл, потому что во время рейдов, не всегда безопасных, каждый в отряде должен был помнить об осторожности…
К оперативным рейдам привлек Татьяну именно Жиров, хотя она, наверное, до конца не осознавала этого. О том, что Татьяна замужем и у нее есть ребенок, Жиров хорошо знал, но что поделаешь – она нравилась ему, и он постарался сделать так, чтобы Татьяна чаще участвовала в его рейдах, привыкла к ним; так оно и получилось. Позже Татьяна думала, что она сама полюбила рейды, на самом деле во многом тут виноват был Жиров. За ним вообще водился один «грех» – переманивал Татьяну работать в милицию. Наблюдательный да к тому же еще влюбленный, он заметил, как искренне переживает Татьяна за всякую изломанную ребячью судьбу, а таких судеб проходили перед ними не одна, не две, а десятки… Обозленные, горящие ненавистью глаза ребят, пойманных на каком-нибудь чердаке, их грубые, ни себя, ни других не жалеющие слова и оскорбления, затравленное состояние, когда их припирают к стенке и не остается ничего другого, как признаваться и «раскалываться», а «раскалываться» так не хочется, – все это действовало на Татьяну угнетающе, больше того – она вдруг внутренне становилась на сторону обозленных, огрызающихся «волчат», и стыдно было, что она такая глупая и непоследовательная, черт знает какая каша творится на душе… Надо сказать, она никогда никому не признавалась в своих мыслях, и Жиров, конечно, тут не был исключением, но он-то все подмечал, все чувствовал, инстинктом влюбленного догадывался о мучениях, которые одолевали Татьяну. И поэтому однажды прямо предложил ей: переходи к нам, ну, если не совсем к нам, то в инспекцию по делам несовершеннолетних – там такие, как ты, во как нужны! – и, улыбнувшись, он провел ребром ладони по горлу. Татьяна отмахнулась от его слов, как от шутки… Но предложение это не забыла. Помнила. Помнила, правда, как о чем-то нереальном, несбыточном…
…Осенний вечер настаивался густой, холодный, и, если б не звезды, яркие, крупные, наверное, в метре ничего бы не было видно, такая кромешная тьма опустилась на эти окраинные дома. Машина подъехала тихо, метров за сто от дома выключив фары – чтоб не дай Бог сверху пацаны не смогли разобрать милицейский фургон. Жиров включил рацию, вызвал опорный пункт:
– Чайка, я Орел. Нахожусь в заданном районе. Разрешите начать операцию?
– Орел, вас слышу. Можете начинать. Прием.
– Вас понял, вас понял. Приступаю к заданию.
И в открытую дверцу машины Жиров тихо сказал:
– Так, ребята, как всегда – по двое к каждой чердачной лестнице. Пять человек со мной, в том числе Мельникова. Оставшимся – по одному у подъездов. Гуськов, распорядись сам.
Гуськов – командир молодежного отряда (он был слесарем с той же ткацкой фабрики, что и Татьяна) – быстро распределил людей, и ребята по одному выбрались из машины.
– Так, кто со мной? Пошли! – скомандовал Жиров. – Мельникова, ты здесь?
– Здесь, здесь, – шепотом ответила Татьяна.
Жиров выбрал средний подъезд. Осторожно поднялись на пятый этаж. А средний он выбрал потому, что считал: самое верное – оказаться сразу в центре чердака, вклиниться в пространство, так что хоть слева, хоть справа – путь для отступления короткий, застать ребят врасплох гораздо легче.
– По одному. За мной! – скомандовал Жиров и первым полез по лестнице на чердак. – Мельникова, не отставай.
– Да здесь я! – едва ли не раздраженно, но все-таки шепотом отозвалась Татьяна. «Вот уж прилипнет – так не отстанет…» – подумала невольно. По лестнице она забиралась следом за Жировым.
Наверху, перед самым люком, Жиров замер, бросил взгляд вниз: все ли готовы? Можно ли начинать? Большинство не в первый раз участвовали в подобных операциях, ни ругать, ни подгонять никого не пришлось.
– Ну, начинаем, – прошептал Жиров и резко толкнул люк вверх. Видимо, он был чем-то придавлен, потому что открылся не так легко, как на это надеялся Жиров. Несколько дорогих секунд для внезапного появления было утеряно, да что делать… Жиров рванулся на чердак.