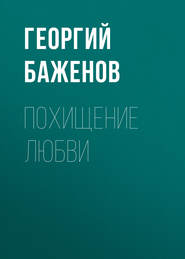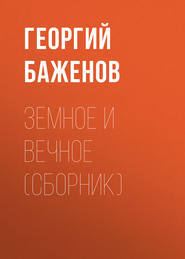По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Бинго, или Чему быть – того не миновать (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Не животных загубим, а скоро они нас, бродячие-то, сожрут с потрохами. Не Москва, а дикие прерии какие-то.
– Вот-вот, наступило время: бросаемся друг на друга, а потом локти кусать будем!
…Ну, все эти разговоры известны, их можно слушать-не переслушать. Любопытно, пожалуй, только одно замечание, сделанное все той же старушкой:
– Как вам не стыдно, мужчина, загубили живое существо, теперь какая же вам будет дорога в рай?
Но в защиту Антона Ивановича вступился местный «философ» дядя Вася (его тут все знали, в этом районе от Абрамцевской улицы до Алтуфьевки):
– В рай-то мы все враз попадем. Как только в аду окажемся… Косточки на огне погреем.
…Дома Марина Михайловна пришла в ужас, увидев Антона Ивановича; даже и слушать ничего не стала, усадила его в такси и повезла в травмопункт. Там Антону Ивановичу тщательно промыли рану (одиннадцать серьезных прокусов!), а потом еще сделали блокаду из двадцати четырех уколов.
…И только когда Антон Иванович оказался в постели (ближе к полуночи), когда Марина Михайловна укутала его в теплое, верблюжьей шерсти одеяло, только тогда Марина Михайловна заметила: в прихожей, в углу, бесхозно валяется трость Антона Ивановича, которой он так дорожил и с которой в последнее время практически не расставался. Но дело даже не в этом. Трость, эта изящная, ручной работы инкрустированная вещь-игрушка, была вся в крови и в клочьях собачьей шерсти. Марина Михайловна отнесла ее в ванную и там тщательно, с мылом промыла, и так же тщательно, насухо протерла байковой тряпкой. И вот, протирая ее, она впервые заметила, что на рукоятке трости просматривается, оказывается, какая-то вязь букв. Что-то там такое написано мелкими-мелкими иностранными буквами. Приглядевшись внимательней, Марина Михайловна разобрала латинскую надпись: Hotel BINGO. «Что за чертовщина, какой отель?» – удивилась Марина Михайловна и направилась в комнату к Антону Ивановичу. Он начинал уже засыпать, но все-таки еще можно было у него спросить:
– Антоша, ты знаешь, а у тебя на трости какая-то надпись.
– Какая надпись? – не понял Антон Иванович.
– Не знаю. Hotel BINGO.
– Да неужто? – удивленно встрепенулся Антон Иванович. – Где? Покажи! Ой… – вдруг застонал он от боли (раны давали о себе знать).
– Лежи, лежи, тихо… Вот, смотри, – показала она.
– И правда, – прошептал Антон Иванович. – Ну надо же, а я ни разу не обратил внимания. Какие мы все, оказывается, неприметливые люди.
– А что это, отель «Бинго»?
– Да это Капитонов Виталий, помнишь, я тебе рассказывал, в Испанию уехал. Он там отель себе купил.
– Вон что.
– Уехал, а мне трость подарил. Я-то все думал: что за трость, откуда она у него? А, оказывается, вон откуда: из отеля. Ну, спасибо, друг, спасла меня твоя трость.
– Надо же, и собаку наверху звали Бинго. Которая из окна выбросилась.
– Марина, ну что за глупости? Я тебе говорил: просто несчастный случай… и все, – поморщился, как от боли, Антон Иванович.
– Несчастный-то несчастный, а все-таки странно как-то… – Но развивать свою мысль Марина Михайловна не стала, и вскоре Антон Иванович мирно и тихо спал. Как ребенок.
Часть третья
Где – везде – нигде
Они приехали в этот небольшой уральский поселок ранним осенним утром. Никто их, конечно, не встречал, да и нужды в том не было: к дому от станции они шли пешком не более пяти минут. Дом стоял на взгорке, на веселом открытом месте, и как раз, когда они подходили к дому, выглянуло с востока первое солнце, и окна в доме сами собой зажглись нежным малиновым светом. У калитки, показалось им, кто-то как будто стоял, но, когда они подошли поближе, увидели нечто вроде идолища, протягивающего навстречу руки. Идолище – звучит грубовато, на самом деле это был веселый деревянный человек-гном, вырубленный из высокого пня искусным плотницким топором. Искусным потому, что взмахи топора, чувствовалось, были резкими, грубыми, но очень точными, разовыми (по слову «раз и навсегда»). На калитке, тоже на деревянной доске, выдолблено старинной вязью:
Биологический
Институт
Народной
Гуманной
Ортопедии
А чуть ниже, помельче: «имени В. В. Котова».
Это и был отец Максима, и вот так сегодня он их встречал.
Мартемьяна Фирсовна, хранительница отцовского очага, вышла на крыльцо, когда они уже звякнули кольцом калитки, старенькая, сгорбленная, подслеповатая, с клюшкой в руке, но однако неплохо шустрая и проворная.
– Надо же, вылитый Владимир Викентьевич! – всплеснула она руками, когда увидела Максима. – То-то мне сон снился…
Давно они переписывались, договаривались, что Максим приедет к отцу в гости, пусть не к живому теперь, но все-таки… И вот он взял и приехал, да не один, а, кажется, со своей суженой…
Конечно, ничего от Института в этом доме не чувствовалось, наоборот, какое-то чересчур захламленное, ветхое двухэтажное строеньице (с покосившейся деревянной лестницей), сплошь заставленное и заваленное старьем и безделушками, среди которых, правда, выделялись то тут, то там деревянные поделки, главным образом, человеки и человечки.
– Отец-то считал, Владимир Викентьевич, что главное в лечении – это душу лечить, – говорила и говорила Мартемьяна Фирсовна, накрывая потихоньку на стол (Нина ей помогала, конечно). – Он хирург был, да, а лечил душу. «Ортопедия как инструмент воскресения души» – вон у него рукопись такая лежит, да никто что-то не печатает ее. Никому теперь ничего не надо. А народ к нам ходит, ой, ходит… Верующие, те покрестят идолище и заходят, а неверующие встанут перед ним на колени, потом тоже идут. Народ-то дикий, ой, дикий, и такой, и сякой, и разэтакий (всякий), а Владимир Викентьевич жалел всех, говорил: «Ногу или руку хочешь вылечить? Сначала к биожизни обрати взор… (так и говорил: «к биожизни»)… там она, твоя душа, в солнце, в лесе, в траве да в воде… поклонись сущему, а уж я тебе помогу по-своему!» Шел и шел к нему народ, и ноги сломанные, и руки, и позвоночник, и головы пробитые, он как-то чудно всех вылечивал, сам не знал как. Прикоснется только – и человек как бы здоров делался. Одно слово: язычники мы.
– Вот и Максим, – вставила словцо Нина, – он тоже язычник.
– Язычник? – ухмыльнулась старуха. – Язычник будешь, когда отцово дело продолжишь. Я-то гиблая стала, скоро помру; кто охранять отцово богатство будет? Охранять да множить?
…Три дня Максим с Ниной пробыли в поселке. Люди перед Максимом (кто в Институт приходил) на колени падали, так что ему как-то не по себе становилось, а Нина ничего, быстро в соображение вошла, помогала старикам да старушкам на ноги вставать, слова разные приговаривала, ласкала да тешила: «Вы не к нам, вы к биожизни взор обратите. Помните, как Владимир-то Викентьевич говорил? Не мне, мол, а солнцу, лесу, воде поклонитесь…»
Молодых, правда, не встречалось среди приходящих, а пожилых да старых – тех много. А когда Максим захотел к отцу на могилу сходить, Мартемьяна Фирсовна удивилась даже:
– На могилу? Так нет у него могилы.
– Как это? – не понял Максим.
– А он, Владимир Викентьевич, как почувствовал: смерть надвигается, ушел куда-то и больше не вернулся. Ушел во-о-он в тот лесок, – показала она в окошко, – потом, видела я, на взгорке он еще появился, с посохом был, я его издалека узнала, потом как раз солнце зашло за Медвяную гору, он и растворился в лучах, Владимир Викентьевич… Во всяком случае, я его больше не видала. И никто не видел.
– И могилы, выходит, нет? – будто в страхе каком-то приложила Нина ладони к губам.
– Зачем ему могила? Нам, язычникам, участникам биожизни и вечным ученикам Народного Института имени Котова, нам ни могилы, ни смерть не нужны. Поклонился березе или солнцу, рассвету или бегущей воде – того достаточно. Живи вечно и не умирай никогда.
– А сами говорите, помрете скоро, – и глупо вроде, а все же наивно-чисто укорила Нина.
– Это я в жизни помру. Точно. А в вечности я всегда буду жить. И ты. И он. Все мы.
– Никогда не умрем?
– Вот коза-то у тебя, – усмехнулась Мартемьяна Фирсовна. – Конечно, никогда. Разве мыслимо жить, чтоб знать: умрешь? Живи и никогда не умирай. Так всегда говорил Владимир Викентьевич. Вон у него еще одна рукопись лежит: «Смерть как форма вечной жизни биосистемы». Тоже что-то никто не интересуется. Не печатают. Никому ничего не надо стало…
Да, и рукописей, конечно, много разных было у Владимира Викентьевича, и каких-то папок с рецептами и засушенными травами; в чуланах и чуланчиках, от потолка до низа, забитые кореньями полки с приполочками, а больше всего резные, долблёные, выпиленные, выструганные веселые жизнерадостные человечки-деревяшки.