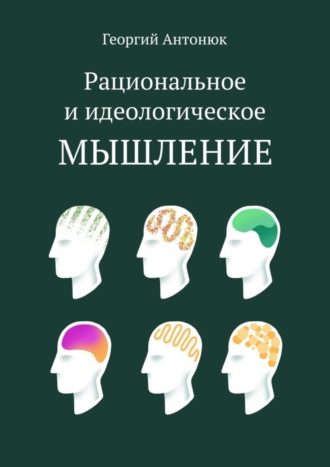
Рациональное и идеологическое мышление
В 40-х гг. XIX в. К. Маркс и Ф. Энгельс сделали для себя повлиявший на все их последующее интеллектуальное творчество вывод о том, что идеология является иллюзорным, ложным сознанием, и отождествляли ее с религией и с идеалистическими философскими взглядами. Они считали, что в этих взглядах мир предстает в искаженном, перевернутом виде и рассматривается как воплощение абсолютно самостоятельных идей (напр., бога, абсолютной идеи). Такому своему пониманию идеологии они противопоставляли научное сознание, остающееся «на почве действительной истории» [2, с. 37]. Создавая диалектико-материалистическое понимание реальности в целом и общественной истории в частности, они считали, что создают научный подход и называли свою концепцию научной теорией. Однако ограниченное, не доходящее до выявления подлинной сущности, хотя и частично верное, понимание К. Марксом и Ф. Энгельсом идеологии, не позволившее выработать строгие логические критерии отличения научного знания от идеологических идей, помешало им преодолеть идеологизированный подход к реальности. Ориентируясь на создание, в противовес религии и философскому идеализму, рационально-научного материалистического мировоззрения, они, в действительности, создали новую, в своей основе внерациональную диалектико-материалистическую идеологию, основанную на такой мыслимой посредством веры безусловно осуществимой идеализации, как бесконечность материального мира, и вывели как абсолютную истину из ими посредством веры приписываемых этому миру бесконечных диалектических законов идею о безусловной необходимости возникновения сконструированного ими же идеализированного «совершенного коммунистического общества». Ограниченность понимания К. Марксом и Ф. Энгельсом сущности идеологии позволила В. И. Ленину с целью утверждения доверия к марксистской идеологии крайне упрощенно переинтерпретировать их взгляд на идеологию, определив ее как идеи, выражающие классовые интересы, и ввести идеологически идеализирующее марксизм понятие научной идеологии применительно к марксизму, якобы органично совмещающему пролетарский классовый интерес с объективно-научным взглядом на реальность. Чтобы убедиться в поверхностности такого понимания идеологии, достаточно посмотреть на упрощенно-прямолинейные объяснения с классовых позиций В. И. Лениным и его последователями сущности религии и философии.
В XX в. в научном сознании наиболее свободомыслящих народов приобрел острую актуальность вопрос о том, целесообразно ли использовать какую бы то ни было идеологию, какие бы цели она ни ставила и какой бы научной, истинной или эффективной она себя ни считала, в качестве идейной основы управления государством и обществом. Острая актуальность этого вопроса сформировалась под влиянием научно-инженерного прогресса и на основе учета практики господства и крушения официальных универсальных псевдонерелигиозных и нерелигиозных идеологий тоталитарных государств (радикально-националистических, радикально-социалистических и др.), тотально подчиняющих государство целям коренного преобразования с помощью него общества в соответствии с их утопическими безгранично идеализирующими общество проектами «совершенного общества», реализация которых неизбежно приводит к огромным человеческим страданиям и жертвам, к угрозе жизнеспособности человечества. Противоречиво пробивает себе дорогу, пусть и не в адекватной научной форме, понимание (напр., в концепциях К. Манхейма, деидеологизации, критического рационализма) того, что в своей основе любой идеологический взгляд на реальность не поддается научному рациональному и даже вообще рациональному обоснованию, а потому не в состоянии быть эффективной идейной основой государственного управления.
Однако во многих государствах и сейчас узаконены играющие очень большую роль в государственной жизни официальная религиозная идеология (напр., мусульманская религия) и официальные религиозные идеологи, оказывающие огромное негативное влияние на прогресс этих государств, зачастую тотально подчиняющие себе государственную власть и жестко подавляющие свободомыслие.
Вся история человечества, начиная с первичных родоплеменных сообществ, характеризуется активной борьбой, зачастую очень жестокой, идеологов за влияние, свое и проводимой ими идеологии, первоначально на догосударственную, а затем на государственную власть с целью использования ее для своего контроля общества. Фанатичное упорство, изощренность и коварство многих идеологов в проведении ими своих идей и влияния общеизвестны. Эта борьба сильно влияла и влияет на общественную жизнь, на исторический процесс.
В идеологизированных догосударственной организации и государстве центральными объектами влияния официальных идеологов всегда были и будут официальная организационно-практическая власть и ее главные носители: в родоплеменных сообществах – вожди, а в государствах – верховные правители государств. Отношения между официальными идеологами и правителями племен и государств никогда не были и не будут приязненно партнерскими, а всегда были и будут отношениями доминирования и подчинения. Для данных отношений характерна перманентная скрытая и открытая борьба, нередко кончавшаяся смертями с обеих сторон. Достаточно вспомнить, сколько настрадались от религиозных жрецов древнеегипетские фараоны, сколько натерпелись европейские короли от Ватикана, как бесцеремонно распоряжались государственной властью партийные коммунистические идеологи в социалистических государствах.
Если официальные идеологи, которые ориентированы, как и все идеологические верующие, на вообще неосуществимые или вообще недоказуемые рациональным путем на предмет осуществимости безгранично идеализированные ценности, цели и веру в их осуществимость, выражают в идеологическом государстве внерациональное начало, то правители племен и государств в силу изначального функционального предназначения практической родоплеменной и государственной власти призваны выражать рациональное начало. Конкретные конечные неидеализированные и измеримые, а следовательно, рациональные проблемы, которые выдвигает перед правителями жизнь, в первую очередь проблемы повседневного обеспечения жизнеспособности племен и государств, обычно либо способствовали выдвижению на роль высших руководителей людей с исключительно рациональным мышлением, либо побуждали правителей даже с выраженным идеологическим мышлением ограничивать влияние идеологической веры и идеологов на управление племенем и государством во имя достижения конечных неидеализированных, т. е. рациональных целей. Только конечные неидеализированные проблемы и цели, хотя и не все, поддаются решению.
Можно выделить три главных типа реальных отношений официальных идеологов и правителей в государствах с официальной идеологией: подчинение правителей идеологам, исполнение ими их воли и идеологических целей; подчинение идеологов правителям, использование правителями идеологии и идеологов как вспомогательных инструментов государственного управления с целью манипулирования сознанием и поведением людей; исполнение правителями функций верховных идеологов. В первом и особенно в последнем случае государства неумолимо двигались к катастрофе, поскольку рациональное решение жизненно важных проблем неизбежно заменялось вообще неосуществимыми идеологическими целями. Даже если правители пытаются использовать официальную идеологию только в качестве инструмента управления сознанием людей, а не как идейную основу решения практических проблем, невозможно предотвратить влияние ее и идеологов на практические решения и ограничение официальными идеологией и идеологами свободомыслия. Официальные идеология и идеологи и в этом случае будут нарушать эффективность рационального управления, поскольку возможно особое, зачастую скрытое, их влияние на государственную власть и правителей и есть специфические идеологические интересы.
Идеологическая вера и искренние идеологи в силу самой природы идеологии ни при каких обстоятельствах не в состоянии признавать свою вторичность по отношению к рациональным практическим правителям и управлению, рациональным взглядам и рациональному отношению к реальности или равенство с ними. Идеологическая вера – это внерациональная категорически императивная абсолютная убежденность идеологического мышления в осуществимости безгранично, в том числе бесконечно, идеализированных им предметов. Идеология категорически повелительно формулирует для верующих как якобы непреложную истину взгляд, бесконечно идеализирующий основу реальности, которой объясняет остальную реальность. Такова ее сущность. Поэтому она не может не рассматривать себя высшей инстанцией в выработке взглядов на реальность и на способы отношения к ней. Соответственно, идеологи как высшие создатели, носители, хранители и толкователи идеологической веры категорически оценивают себя при осмыслении существенных сторон реальности и человеческого бытия высшими судьями в вопросах о том, что безусловно истинно, а что не истинно, что безусловно должно делать, а что не должно, к чему безусловно следует стремиться, а чему следует противодействовать.
Идеологии, сменившие первобытно-мифологические идеологии, обычно имеют фиксированные имена (иногда вымышленные) своих основателей и творческих преемников, хотя не все эти имена сохранились в памяти человечества. В рамках идеологических отношений приверженцев конкретного вероучения отношения между его создателем и последователями носят характер абсолютного императивного духовного авторитета творца вероучения – учителя и искренних, неукоснительно следующих его учению учеников-проповедников, пропагандистов и остальных верующих, безапелляционно признающих его единственно способным на личное выражение непреложных истин. Данный безусловный духовный авторитет учителя выражается в категорическом императиве «Учитель сказал!» (напр., «Сам сказал!» – так относились ученики к Пифагору; «Как сказал Карл Маркс!» – так опирались на авторитет К. Маркса последователи его коммунистического вероучения). Если же ученик позволил себе категорическое утверждение «Учитель, ты не прав!», то это означало, что он отошел от канонов созданного учителем вероучения и впал в ересь, а следовательно, или перешел в иную идеологическую веру, или создал частично или полностью самостоятельное вероучение. Если же верующими признается, что ученик в строгом соответствии с основными положениями идеологического вероучения учителя развивает это вероучение, то в системе отношений данной веры он приобретает статус подлинного творческого преемника создателя учения, и, соответственно, безусловно признается другими учениками единственно верным толкователем и продолжателем учения учителя, посвященным во все его тонкости, абсолютно авторитетным посредником (медиумом) между учениками и учителем, несущим в себе его причастность к безусловной истине и способность к ее выражению, а следовательно, абсолютно авторитетным посредником между учениками и верой. Возможны как основанная на признании верующими строгая иерархия отношений между идеологическими преемниками (напр., К. Маркса – В. И. Ленин и И. В. Сталин), так и острая конкурентная борьба между ними (напр., К. Маркса – Г. В. Плеханов и В. И. Ленин) и их сторонниками.
Поскольку любая идеологическая вера имеет категорически повелительный характер, то она не констатирует, подобно науке, а безусловно предписывает мыслить, что мир именно такой и только такой, каким он изображается в ее идеологии, а не иной, и что поэтому к нему следует относиться так и только так, как это показывается ее идеологией, а не иначе, и, следовательно, категорически повелительно утверждает, навязывает себя при любых обстоятельствах в качестве единственно верных понимания реальности и руководства в жизни. Поэтому она по самой своей природе наступательная, экспансионистская, конфликтная и иной не может быть. Данная наступательность реализуется в первую очередь в направлении непреложного утверждения безусловной приоритетности идеологической веры по отношению к рациональному подходу, по крайней мере, в существенных взглядах на мир и в решении существенных вопросов практической жизни. Но каждая идеологическая вера категорически повелительно оценивает только свою идеологию абсолютно истинной.
Официальные идеологи при всех обстоятельствах устремлены на подчинение государственной власти идеологии и идеологической вере. К этому, безусловно, повелевает их идеологическая вера. От особенностей личности идеологов зависят только их большие или меньшие активность, умение, настойчивость и т. п. при утверждении примата веры и идеологов над рациональным подходом, над правителями и властью государства. Подчиненная идеологии и идеологам государственная власть существенно повышает их возможности утверждать с помощью нее свое влияние в обществе. Поэтому в идеологическом государстве невозможно вообще равноправное сотрудничество правителей государства и государственных идеологов. При сильном влиянии государственной идеологической веры в обществе даже выраженные волевые рациональные правители государства могут вынужденно подчинять свою власть влиянию идеологов. Даже если влияние государственной идеологии на государственную власть официально ограничено определенными пределами и ей отказано в ее использовании при принятии решений по существенным практическим вопросам, а официальным идеологам отведена второстепенная роль в иерархии государственной власти, в силу категорически императивной природы идеологической веры, они неизбежно будут стремиться любыми доступными средствами расширять свое влияние на государственную власть. В любой идеологии нравственно все, что служит утверждению ее идей. Напр., В. И. Ленин категорически предписывал своим ученикам, что «в основе коммунистической нравственности лежит борьба за укрепление и завершение коммунизма».
В обусловленных научно-инженерным прогрессом на основе современной научно-инженерной революции деидеологизируемом и неидеологическом государствах государство и его руководство нуждаются в антиидеологической безопасности и, соответственно, в активной антиидеологической защите. Эта защита связана с идейным, правовым, нравственным, организационным и иным избавлением их от идеологии и от влияния на них идеологов и с обеспечением предотвращения их идеологизации. Всегда будет существовать потенциальная опасность проникновения идеологии в государственную власть через идеологизированные правящие партии, правителей, иных носителей государственной власти и открытого или скрытого, преднамеренного или непреднамеренного использования ими идеологических подходов к управлению государством.
Идеологические ориентиры могут непреднамеренно использоваться субъектами государственной власти уже хотя бы потому, что отсутствуют подробные критерии разграничения идеологических и неидеологических взглядов на мир, к тому же существует острый дефицит рационально мыслящих специалистов, способных квалифицированно провести оценку идейных взглядов на предмет их идеологичности: их считанные единицы в мире, в то время как идеологов много. На осуществление идеологизации сознания государственного руководства могут также влиять идеологические установки рядовых граждан, интересы которых учитывает власть, оппозиционных партий, не участвующих в государственной власти, иных общественных организаций (напр., церкви), идеологов, находящихся вне власти или оказывающих ей идейную помощь. На проникновение определенной идеологии в государственную власть может также повлиять опасный для государства соблазн рационально мыслящих правителей использовать ее в качестве средства манипулирования сознанием и поведением масс, включая сознание искренних приверженцев такой идеологии, в корыстных интересах, в том числе и в качестве средства обретения доверия у ее приверженцев, а также борьбы с оппонентами.
Даже в идеологическом государстве необходима антиидеологическая защита с целью обеспечения антиидеологической безопасности государства и его руководства, если руководство, вопреки идеологической функции государства, обладает выраженным рациональным подходом к управлению государственной жизнью. Она нужна в первую очередь для того, чтобы предотвратить хотя бы при решении существенных вопросов превращение государственной идеологии в идейную основу государственного управления, чтобы воспрепятствовать установлению тотального контроля официальной идеологии над управленческими решениями и официальных идеологов над государственной властью и государственным руководством.
Полноценное демократическое, правовое государство строится только на рациональном идейном фундаменте и не нуждается в официальной идеологии. В нем идеология отделена от государственной власти, которая опирается в управлении только на рациональные, в первую очередь научные и социально-инженерные знания, на рационально обоснованные достижимые ценностные ориентиры, нормы, идеалы, цели, проекты, планы, программы. А поскольку всегда будут находиться люди, предрасположенные к идеологической вере, то демократическое государство гарантирует идеологический плюрализм в сфере гражданского общества и право не исповедовать никакую идеологию, свободу науки, инженерии, искусства. Если в тоталитарном идеологическом государстве, где даже наука, инженерия, искусство подчинены целям официальной идеологии, главную идейную роль в управлении им выполняют официальные идеологи, которые в силу категорически повелительной природы идеологии, не терпящей никакого сомнения в ее претензиях на непреложную истинность, фанатично устремлены на тотальный контроль государственной власти и всего общества в направлении обеспечения их соответствия своей идеологии, то главное идейное обеспечение демократической государственной власти создают ученые и социальные инженеры, являющиеся лишь ее помощниками. Рациональная, не обладающая категорической императивностью сущность научного и инженерного знания, которая изначально явно или в потенции содержит сомнение, сама по себе не способна категорически побуждать ученых и социальных инженеров к контролю ими государства, его власти, правителей и общества с целью обеспечения безусловного соответствия их определенным научным и социально-инженерным идеям. В демократическом государстве идеология – это исключительно частное дело, а наука и инженерия по отношению к государственной власти – это лишь эффективные инструменты управления государством, а не сама эта власть, каковой является официальная идеология в идеологическом государстве.
Опубликовано: Г. А. Антонюк. Идеологи и правители (антиидеологическая защита государства и его правителей) // Гуманитарно-экономический вестник. – Минск, 1999. – №2 (13). – С. 44—56.
Автор внес уточнения в первоначальный опубликованный текст статьи, не изменяющие ее суть.
8. Объективная цель человечества и его стандартизация
В данном исследовании, которое относится к начальному этапу создания мною концепции чистого (пурического) рационализма и чистой (пурической) идеологии, я формулирую фундаментальную научную концепцию объективной цели человечества, знание которой, полагаю, способно быть эффективной парадигмой объяснения главной объективной причины и генерального объективного направления поступательного саморазвития человечества, а также определения людьми сознательных объективно обусловленных целей развития наций и человечества на неопределенно конечное время. Она представляет собой объективно-целевой (телеономический) подход к познанию общества и человечества и к управлению их функционированием и поступательным развитием, который опирается на идею объективной преддетерминированности определенного результата жизнедеятельности живых систем, а значит, изначальной объективной направленности этой жизнедеятельности на достижение такого результата. Это чисто рациональная концепция. Я исхожу из признанной наукой идеи саморазвития жизни. Данная концепция отвергает религиозные, философские и другие идеологические обоснования, основанные на идеологической вере в якобы существование бесконечной основы реальности (бесконечных материи, духа) и в ее якобы необходимое проявление в конечных предметах. Идеологическая идея о якобы существовании бесконечного не мыслимая содержательно рациональным мышлением, признающим существование только конечных предметов и причин, и не проверяемая конечной практикой, а значит, не способна служить методологическим инструментом научного, в том числе социально-научного, познания и практической деятельности, включая выработку социально-инженерных решений по управлению государством, обществом, человечеством в целом.
Суть концепции в следующем. Хотя человечество как вид живого (Homo sapiens) является высшим проявлением жизни на Земле, однако его развитие в своей основе подчиняется общим законам жизни и, в частности, законам эволюции видовой формы жизни. В рамках передовой синтетической теории эволюции жизни, использующей не только идеи Ч. Дарвина, но и достижения генетики, кибернетики, системологии и других наук, жизнеспособный биологический вид понимается как сложно организованная саморегулируемая система, обладающая изначально присущей ему как саморегулируемой системе объективной целью (в кибернетическом смысле). Это изначальная объективная направленность его устройства и его характеристик, компонентов, составляющих его индивидов, отношений на обеспечение его жизнеспособности как целостной системы – на сохранение и повышение его жизнеспособности.
Видовая форма жизни является одной из основных ее форм наряду с индивидуальной. Но индивиды не существуют вне биологического вида, а являются его компонентами, обладающими в нем относительной автономией, иногда весьма мизерной. Человечество как видовая форма жизни тоже представляет собой высокоцелостную саморегулируемую систему, обладающую объективной целью, т. е. изначальной направленностью его характеристик, отношений, устройства, качеств человеческих индивидов на сохранение и повышение его жизнеспособности. И общественные отношения (общество и разнообразные сообщества), и индивиды являются в конечном счете средством обеспечения жизнеспособности человечества как вида жизни, несмотря на высокую степень их автономности. Поэтому невозможно обеспечивать потребности и интересы индивида, личности как высшей цели, как самоцели, которой, согласно Ж.-Ж. Руссо, И. Канту, К. Марксу, должен быть каждый человек.
Человечество существовало, существует и в силу сущности устройства мироздания в целом, природы и вида Homo sapiens неизбежно будет существовать в экстремальных условиях, время от времени ставящих людей перед жестким выбором: либо стремиться во что бы то ни стало сделать благо всем индивидам и подвести человечество к гибели, либо поступиться потребностями, интересами индивидов, чтобы защитить все человечество.
Первичными ячейками организации и развития человечества в древности были родоплеменные сообщества. В современную эпоху такими первичными ячейками объективно являются, главным образом, нации, а в перспективе такой ячейкой, возможно, будет все объединенное человечество. Поэтому в современную эпоху при постановке целей управления конкретным государством главным ориентиром сознательной постановки генеральной цели не может не быть обеспечение жизнеспособности нации, согласованное с обеспечением жизнеспособности всего человечества.
Идея концепции о наличии у человечества объективной цели и об эффективности объяснения многих существенных черт исторического процесса данной целью видится полезной с познавательной и социально-инженерной точки зрения.
Статья
Первичной формой бытия человечества является не общество как система социальных связей, а вид Homo sapiens как система организации жизни, как высшая ступень развития системно-видовой организации живого на Земле. Человечество – есть жизнь в ее общественно организованной форме. Это значит, что взаимодействие людей, их социальные отношения, общество – это не надстройка над живым и не автономное надбиологическое образование, подчиняющее себе процесс жизни. Общественная организация человека является сущностно-функциональной стороной этой жизни. И ее социальные законы очень глубоко, существенно определяют особенности человечества как формы жизни по сравнению с ее природными формами.
В то же время жизнь человеческого вида, его развитие, несмотря на глубокую специфику, протекает в соответствии с общими законами жизни. А ее важнейшей особенностью является сложная системная организованность. Неперспективен взгляд, что индивид (особь) – это основная и первичная форма организации живого, а все надиндивидуальные системы (популяция, вид, биоценоз, биосфера) производны от их взаимодействия, а потому вторичные. В. И. Вернадский обосновал идею зарождения жизни как одновременного необходимого появления нескольких разноуровневых организационных форм ее существования – индивидуальных и надиндивидуальных. Согласно ему, идея первичности индивидов и производности надиндивидуальных форм жизни противоречит биохимическим взаимодействиям, в процессе зарождения жизни «должен был одновременно появиться сложной комплекс живых форм, развернувшийся затем в современную живую природу» [3, с. 639]. Образование первичных особей было органично подчинено одновременному образованию первичных видов, первичных биоценозов, первичной биосферы.

