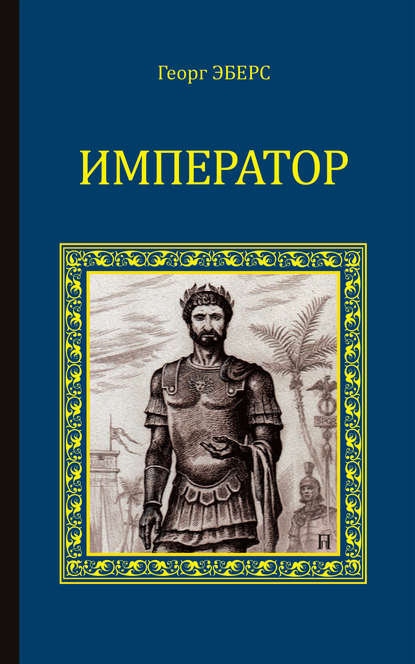По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Император
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Все еще молод, все еще полон образов, все еще поэт! – ответила императрица вялым тоном. – Два часа тому назад, – продолжала Сабина, – я виделась с твоей женой. Ей в Африке, по-видимому, не везет. Я ужаснулась, найдя прекрасную матрону Юлию в таком состоянии. У нее нехороший вид.
– Годы – враги красоты.
– Часто, но истинная красота нередко выдерживает их нападение.
– Ты сама служишь живым доказательством правдивости этого утверждения.
– Ты хочешь сказать, что я становлюсь старой?
– Нет, что ты умеешь оставаться прекрасной.
– Поэт! – прошептала императрица, и ее тонкая верхняя губа искривилась.
– Нет, государственные дела не в ладу с музою.
– Но кому вещи кажутся более прекрасными, чем в действительности, или кто дает им имена более блистательные, чем они заслуживают, того я называю поэтом, мечтателем, льстецом, как случится.
– Скромность отклоняет даже заслуженное поклонение.
– К чему это пустое перебрасывание словами! – вздохнула Сабина, глубоко опускаясь в кресло. – Ты посещал школу спорщиков здешнего Музея, а я – нет. Вон там стоит софист Фаворин… он, вероятно, доказывает астроному Птолемею, что звезды – не что иное, как кровавые пятнышки в нашем глазу, а мы воображаем, что видим их на небе. Историк Флор[27 - Флор – историк, жил во II в. н. э.; написал историю римских войн от первых царей до Августа.] записывает этот важный разговор; поэт Панкрат[28 - Панкрат – александрийский поэт, причисленный к Музею за хвалебные стихи в честь Адриана и Антиноя.] воспевает великую мысль философа, а какая задача выпадает по этому поводу на долю вон того грамматика – это ты знаешь лучше меня. Как его зовут?
– Аполлонием[29 - Аполлоний Дискол (т. е. ворчун) – александрийский грамматик, автор трактата о синтаксисе.].
– Адриан дал ему прозвище «темный». Чем труднее бывает понять речь этих господ, тем выше их ценят.
– За тем, что скрыто в глубине, приходится нырять, а то, что плавает на поверхности, уносится любой волной или становится игрушкой ребятишек. Аполлоний – великий ученый.
– В таком случае моему супругу следовало бы оставить его при учениках и книгах. Он пожелал, чтобы я приглашала этих людей к моему столу. Относительно Флора и Панкрата я согласна, но другие…
– От Фаворина и Птолемея я легко мог бы освободить тебя; пошли их навстречу императору.
– Для какой цели?
– Чтобы развлекать его.
– Его игрушка при нем, – возразила Сабина, и ее губы искривились на этот раз с выражением горького презрения.
– Его художественный взор, – сказал префект, – наслаждается часто прославленной красотой форм Антиноя, которого мне еще до сих пор не удалось видеть.
– И ты жаждешь посмотреть на это чудо?
– Не стану отрицать.
– И тебе все-таки хочется отдалить встречу с императором? – спросила Сабина, и ее маленькие глаза сверкнули пытливым и подозрительным взглядом. – Почему хочешь ты отсрочить приезд моего супруга?
– Нужно ли мне говорить тебе, – отвечал Титиан с живостью, – как радует меня после четырехлетней разлуки свидание с моим повелителем, товарищем моей юности, величайшим и мудрейшим из людей? Чего бы не дал я за то, чтобы он был теперь уже здесь, и все же я желал бы, чтобы он приехал сюда не через одну, а через две недели!
– В чем же дело?
– Верховой гонец привез мне сегодня письмо, в котором император извещает, что хочет поселиться не в Цезареуме, а в Лохиадском дворце.
При этом известии лоб Сабины нахмурился, глаза ее, мрачные и неподвижные, опустились, и, закусив нижнюю губу, она прошептала:
– Это потому, что здесь живу я!
Титиан сделал вид, будто не слышал этого упрека, и продолжал небрежным тоном:
– Он найдет там тот обширный вид вдаль, который он любит с юных лет. Но старое здание в упадке, и хотя я с помощью нашего превосходного архитектора Понтия уже приступил к делу, употребляя все силы, чтобы, по крайней мере, одну часть дворца сделать возможной для жилья и не совсем лишенной удобств, но все-таки срок слишком короток для того, чтобы… что-либо подходящее… достойное…
– Я желаю видеть своего супруга здесь, и чем скорее, тем лучше! – решительно прервала императрица. Затем она повернулась к довольно отдаленной от ее кресла колоннаде, тянувшейся вдоль правой стены залы, и крикнула: – Вер!
Но ее голос был так слаб, что не достиг цели, и потому она снова повернулась лицом к префекту и проговорила:
– Прошу тебя, позови ко мне Вера, претора Луция Элия Вера.
Титиан поспешил исполнить приказание. Уже при входе он обменялся дружеским приветствием с человеком, с которым пожелала говорить императрица. Вер же заметил префекта лишь тогда, когда тот вплотную к нему подошел, ибо сам он стоял в центре небольшой группы мужчин и женщин, слушавших его с напряженным вниманием. То, что он рассказывал им тихим голосом, по-видимому, было необыкновенно забавно, так как его слушатели употребляли все усилия для того, чтобы их тихое, сдержанное хихиканье не превратилось в потрясающий хохот, который ненавидела императрица.
В ту минуту, когда префект подходил к Веру, молодая девушка, хорошенькая головка которой была увенчана целой горой маленьких кругленьких локончиков, ударила претора по руке и сказала:
– Это уж слишком сильно; если ты будешь продолжать в таком духе, я стану впредь затыкать уши, когда ты вздумаешь заговорить со мной. Это так же верно, как то, что меня зовут Бальбиллой[30 - Бальбилла – римская поэтесса, писавшая главным образом на эолийском наречии в подражание Сафо. Она хвасталась своим происхождением от римского наместника в Египте Клавдия Бальбиллы (55 г. н. э.) и от сирийского властителя Антиоха.].
– И что ты происходишь от царя Антиоха, – прибавил Вер с поклоном.
– Ты все тот же, – засмеялся префект, мигнув забавнику, – Сабина желает говорить с тобою.
– Сейчас, сейчас, – отозвался Вер. – Моя история правдива, – продолжал он свой рассказ, – и вы все должны быть благодарны мне, потому что она освободила нас от этого скучнейшего грамматика, который вон там прижал моего остроумного друга Фаворина к стене. Твоя Александрия нравится мне, Титиан, но все-таки ее нельзя назвать таким же великим городом, как Рим. Здесь люди еще не отучились удивляться. Они все еще впадают в изумление. Когда я выехал на прогулку…
– Говорят, твои скороходы с розами в волосах и крылышками на плечах летели перед тобою в качестве купидонов.
– В честь александриек.
– Как в Риме – в честь римлянок, а в Афинах – в честь аттических женщин, – прервала его Бальбилла.
– Скороходы претора мчатся быстрее парфянских скакунов, – воскликнул постельничий императрицы. – Он назвал их именами ветров.
– Чего они вполне заслуживают, – добавил Вер. – А теперь пойдем, Титиан.
Он крепко и по-дружески взял под руку префекта, с которым был в родстве, и прошептал ему на ухо, пока они вместе приближались к Сабине:
– Для пользы императора я заставлю ее ждать.
Софист Фаворин, разговаривавший в другой части залы с астрономом Птолемеем, грамматиком Аполлонием и философом-поэтом Панкратом, посмотрел им вслед и сказал:
– Прекрасная пара. Один – олицетворение всеми почитаемого Рима, властителя вселенной, а другой – с наружностью Гермеса…[31 - Гермес – вестник богов, изображался в виде сильного, стройного юноши с добрым, умным и хитрым лицом.]
– Другой, – перебил софиста грамматик строгим и негодующим тоном, – другой – образец наглости, сумасбродной роскоши и позорной испорченности столичного города. Этот беспутный любимец женщин…
– Я не думаю защищать его манеру обхождения, – перебил Фаворин звучным голосом и с таким изяществом греческого произношения, что оно очаровало даже самого грамматика. – Его поведение, его образ жизни позорны, но ты должен согласиться со мною, что его личность запечатлена чарующей прелестью эллинской красоты, что хариты[32 - Xариты (у греков) – богини изящества, соответствующие римским грациям.] облобызали его при рождении и что он, осуждаемый строгой моралью, заслуживает похвалы и венков со стороны приветливых поклонников прекрасного.