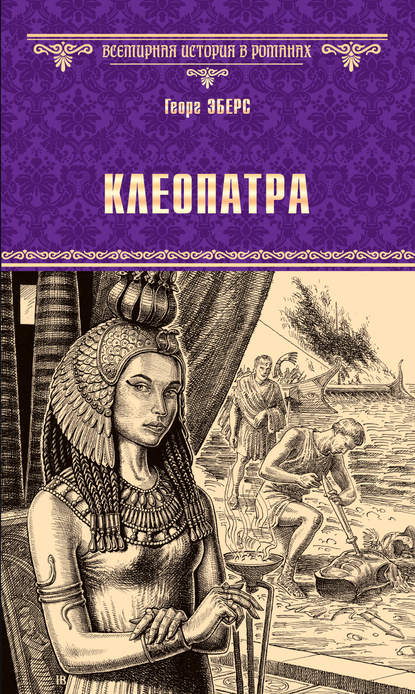По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Клеопатра
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Этого не будет! Я не вынесу ни единого свитка. Завтра утром, как и всегда, вы найдете меня за работой и, если решитесь отнять у меня мою собственность, вам придется употребить силу.
– Полно, достойный муж, – перебил его казначей. – Всем в подлунном мире приходится подчиняться высшей воле; над богами владычествует судьба, над смертными – цари. Ты мудр и понимаешь, что я только исполняю свою обязанность! Но я знаю жизнь и, если позволишь, посоветую тебе подчиниться неизбежному. Ручаюсь, что ты не останешься в убытке, что царица даст тебе вознаграждение…
– Которого, – с горечью подхватил Дидим, – хватит, чтобы построить дворец на месте этого домишки. Но, – вспылил он снова, – мне не нужно ваших денег! Я не хочу уступать свое законом утвержденное право! За него я стою, и тот, кто осмелится посягнуть на мою собственность, которой владели мой отец и дед…
Тут он умолк, потому что на улице послышались восторженные крики; когда же они затихли и упрямый старик хотел продолжать свою речь, его перебил звонкий женский голос, обратившийся к нему с греческим приветствием: «Радуйся!», и звучавший так весело и приветливо, что тяжелое смущение, одевшее точно облаком лица присутствующих, почти рассеялось.
Пока одни прислушивались к гулу возбужденной толпы, а другие смотрели на старика, упорство которого вряд ли можно было преодолеть, молодежь уставилась на прекрасную женщину, только что вошедшую в комнату. Быстрая ходьба разрумянила ее щеки, обворожительное личико весело и приветливо глядело на сестру, деда и архитектора из-под голубого шарфа, обвивавшего белокурую головку.
Казначею и многим его спутникам показалось, будто само счастье посетило этот печальный дом, и у многих лица прояснились, когда старик совершенно другим тоном, чем прежде, воскликнул: «Ты здесь, Барина?», а она, не обращая внимания на присутствующих, нежно расцеловала его в обе щеки.
Елена, архитектор и старый философ Евфранор подошли к ней, и последний с ласковым упреком спросил:
– Сумасшедшая, как ты пробралась сюда сквозь эту ревущую толпу?
Она весело отвечала:
– Один ученый, член Музея, встречает меня вопросом, здесь ли я, хотя по милости дружелюбной или, – как ты думаешь на этот счет, дед? – враждебной судьбы я с детства была довольно заметной, другой укоряет за то, что я пробралась сквозь толпу, точно можно остановиться перед чем-либо, когда нужно помочь друзьям, которым приходится плохо. Но какой ужасный шум!
Она поднесла свои маленькие ручки к ушкам, прикрытым шарфом, и заговорила не прежде, чем шум утих, хотя и уверяла, что спешит и зашла только узнать, как дела.
Сестра и архитектор едва успевали отвечать на ее торопливые вопросы. Когда же она узнала, зачем явились сюда посторонние лица, то поблагодарила казначея и поспешила уверить его, что старые друзья ее деда постараются отвести от него эту неприятность.
На настойчивые вопросы обоих стариков, как она добралась сюда, Барина отвечала:
– Вы, может быть, не поверите, так как я ни на минуту не умолкаю, но я поступила, как бессловесная рыба, и приплыла сюда по воде.
Затем она отвела деда в сторону и шепотом сообщила ему, что Архибий встретился с ней в гавани, когда она собиралась сесть в лодку, и обещал зайти к ней вечером по важному делу. Ей нужно переговорить с глазу на глаз с этим почтенным человеком и потому она не может остаться. Тут она обратилась к присутствующим и спросила, почему народ так шумит.
Архитектор отвечал, что Филострат старается убедить толпу, будто единственное подходящее место для статуи – сад Дидима, и прибавил, что знает, по чьему наущению тот действует.
– Во всяком случае, не по наущению регента, – заверил казначей.
Барина, веселое личико которой слегка затуманилось при упоминании имени оратора, ответила ему легким кивком и шепнула, что берется переговорить со стариком, лишь бы ему дали время одуматься.
Завтра утром чиновники смогут исполнить свою обязанность, если регент не откажется от своего намерения. Она между тем постарается уговорить деда, хотя он и не из податливых. Казначей же со своей стороны может напомнить регенту, что в такое время следует избегать открытых столкновений и следовало бы уважить лета и права Дидима.
Пока Аполлоний разговаривал со своими спутниками, Барина подозвала архитектора и простилась с родными. Ей, сказала она, не угрожает никакая опасность, тем более, что и на этот раз она удалится, как рыба, но пустит в ход язык и поговорит с таким человеком, который давно бы уже защитил Дидима, если бы царица была здесь.
До сих пор глаза и уши всех присутствующих были обращены к ней. Всякому хотелось любоваться и слушать ее.
Лишь после ее ухода чиновники удалились со своими спутниками, чтобы еще раз переговорить с регентом по поводу этого неприятного происшествия.
На этот раз Горгий неохотно следовал за молодой женщиной. Не далее как час тому назад он почел бы за счастье сопровождать и охранять Барину, теперь же ему приятнее было бы остаться с ее сестрой, которая так благодарно и вместе с тем так скромно ответила на его прощальные слова. Но и для самых непостоянных людей заменить старую привязанность новой все же не так легко, как черную фигуру в шахматах сменить на белую, так что ему и теперь было очень приятно находиться рядом с Бариной. Только мысль, что Елена может подумать, будто он находится в близких отношениях с ее сестрой, несколько смущала его.
В саду Барина попросила его помочь ей взобраться по узкой лесенке на плоскую кровлю домика привратника.
Отсюда они могли видеть все, что происходило на площади, причем оставаясь незамеченными, так как вокруг домика росли густые лавры. Перед обоими храмами пылали сосуды с варом, бросавшие на площадь яркий свет, который еще усиливался благодаря факелам в руках скифской стражи. Но все равно в толпе нельзя было разобрать отдельных фигур. Только мраморные стены храмов, статуи перед домом Дидима, гермы[22 - Герма – четырехгранный столб со скульптурным завершением, вид декоративной и парковой скульптуры.] по сторонам улицы, ведущей от северной части «уголка муз» к морскому берегу, выступали из темноты, сверкая при свете пылавшей смолы, а дым от факелов заволакивал небо, скрывая блеск звезд. Из людей, столпившихся на площади, ясно видны были только Дион, стоявший у подножия закутанной статуи, и Филострат, взобравшийся на одного из дельфинов, окружавших источник между храмом Изиды и улицей. Их разделяло пространство шагов в десять, позволявшее слышать друг друга. И на них-то было обращено всеобщее внимание. Подобные ораторские состязания составляли одно из любимых развлечений александрийцев, которые встречали каждый удачный оборот одобрительными восклицаниями, а каждое почему-либо не понравившееся им слово криком, свистками и шиканьем.
Барина могла видеть и слышать все, что происходило перед ней. Раздвинув скрывавшие ее ветви, она прислушалась к спору. Когда негодяй, которого она когда-то называла своим мужем, а теперь презирала так глубоко, что не могла даже ненавидеть, задел ее родных, сказав, что они из поколения в поколение кормятся за счет Музея, она закусила губы. Но вскоре ее рот слегка искривился гримасой, как будто ей противно было слушать; в эту минуту Филострат обратился к Диону, обвиняя его в том, что тот хочет помешать регенту увековечить славу великой царицы и обрадовать ее благородное сердце.
– Мой язык, – воскликнул он, – орудие, которое меня кормит! Ради чего я, усталый и изможденный, обращаюсь к вам с речью? Ради нашей великой царицы Клеопатры и ее великодушного друга, которому каждый из нас обязан каким-нибудь благодеянием. Кто любит ее и божественного Антония, нового Геркулеса и Диониса, – скоро они вернутся к нам с победным венком! – тот не задумается вместе с регентом и со всеми благородными людьми отобрать жалкий клочок земли у старого скряги, который держится за него так упрямо и с умыслом!.. Слышите ли, с умыслом! А каким – не стану говорить: это слишком отвратительно, да я и не доносчик. Если же кто стоит за старого пачкуна, извергающего книги, как этот дельфин воду, – пусть себе, я ему не позавидую. Но пусть он сначала посмотрит на союзника Дидима. Вон он стоит передо мной. Лучше бы было, если бы он превратился в камень, а дельфин у его ног – в живое существо. Тогда, по крайней мере, ему можно было бы остаться в тени! Ну, а теперь я должен вытащить его оттуда, я должен показать вам Диона, сограждане, хотя мне приятнее было бы говорить о вещах, которые менее возбуждают желчь! Тусклый свет не позволяет вам различить цвет его плаща, но я видел его днем. Это гиацинтовый пурпур! Вы знаете, сколько стоит такая мантия. Любой из вас мог бы десять лет прокормить на нее жену и детей! «Должно быть, много в мошне у господина, который решается подставлять такое сокровище дождю и ветру!» – подумает каждый, глядя, как он щеголяет, точно павлин. Да, у него в мошне много талантов![23 - Талант – в данном случае, самая крупная весовая и денежно-счетная единица того времени. Во времена Александра Македонского талант был равен 25,9 кг золота.] Нехорошо только, что почти каждый из вас должен отнимать хлеб у своей семьи, глоток вина у себя самого, чтобы наряжать таких господ! Его отец, Эвмен, был сборщиком податей, и вот на те деньги, которые этот кровопийца вытянул у вас и ваших детей, его сынок рядится в пурпур и разъезжает в колеснице четверней, забрызгивая вас грязью! Как вам это понравится? Много ли он весит, этот молодчик, но ему, изволите видеть, необходима четверня, чтобы разъезжать по улицам. А знаете ли, почему? Я вам скажу. Потому что он боится застрять где-нибудь, споткнуться, как и в речах спотыкается!
Тут Филострат остановился, так как его шутка вызвала смех у некоторых слушателей. Но Дион, отец которого, занимавший важный пост сборщика податей, действительно увеличил свое состояние, не остался в долгу.
– Так, так, – подхватил он презрительно, – сирийский болтун на этот раз не ошибся! Вот он передо мной, и кто же не споткнется, увидев перед собой вонючее болото? Что касается пурпурного плаща, то я ношу его, потому что он мне нравится. Мне не по вкусу желтый плащ Филострата. Конечно, при солнечном свете он довольно ярок. Он напоминает одуванчик. Вы знаете этот цветок? Когда он отцветает, – а вы сами видите, похож ли Филострат на нераспустившуюся почку, – то превращается в пустой шар, разлетающийся от дыхания ребенка. Не назвать ли нам эти цветки «филостратовыми головками»? А, вы одобряете мое предложение? Очень рад, сограждане, благодарю вас! У вас есть вкус! Вернемся же к моему сравнению. В каждой голове есть язык, есть он и у Филострата, и по его же словам, это орудие, которое его питает!
– Что вы слушаете этот золотой мешок, этого врага народа! – бешено перебил Филострат. – Видите, по его мнению, честная работа унижает гражданина!
– О честной работе и речи не было, любезнейший, – возразил Дион. – Я говорил только о твоем языке. Вы понимаете меня, сограждане! Впрочем, может быть, не всякий из вас имел дело с этим почтенным человеком; так я объясню вам, что он такое: я его хорошо знаю! Если кому случится вести какой-нибудь скверный, постыдный процесс, советую обратиться к этому человеку. Поверьте мне, дело Дидима уже потому правое, что он так нападает на него! Я уже объяснял вам, что это за дело. Кто из вас, имея сад, может сказать: он мой, если, пользуясь отсутствием царицы, у вас начнут отбирать его. А саду Дидима угрожает именно такая участь. Если это обратится в правило, опасайтесь сеять или сажать что-нибудь на своей земле; прежде чем ваши семена взойдут, у вас могут отнять ваш участок, если супруга какого-нибудь знатного лица вздумает сушить на нем белье!
Одобрительные восклицания послышались в ответ на эти слова; Филострат же прокричал во все горло:
– Послушайте меня, сограждане, не поддавайтесь обману! Никого не собираются ограбить! Хотят приобрести за крупное вознаграждение участок земли, чтобы украсить город, а вместе с тем почтить и порадовать царицу. Неужели же регент и граждане должны отказаться от случая выразить свою радость и благодарность по поводу величайшей победы, о которой мы скоро услышим, только потому, что их план не нравится злому человеку, скажу прямо, врагу отечества!
– Вот теперь я на краю болота, – живо возразил Дион, – и, пожалуй, мне в самом деле придется споткнуться! Нужно большое присутствие духа, чтобы не прикусить язык, слушая такую бесстыдную, такую ядовитую клевету! Вы знаете, сограждане, сколько лет семья Дидимов из поколения в поколение живет в этом домике, создавая замечательные труды; вы знаете, что старец, о котором идет речь, был наставником царских детей!
– А все-таки, – крикнул Филострат, – он совсем недавно прогуливался под руку с Арием, другом Октавиана, заклятого врага царицы! Да я сам слышал и другие слышали, как Дидим называл этого самого Ария своим любимым учеником!
– Вот назвать так тебя, – возразил его противник, – постыдился бы последний школьный учитель! Да если б даже тебя отдали в учение не к риторам, а к селедочным торговцам, то всякий порядочный человек из них постыдился бы такого ученика, потому что они продают хороший товар за медные деньги, а у тебя за золото можно купить только мерзости! Теперь ты отрабатываешь его, стараясь замарать честное имя достойного человека. Но я не потерплю этого! Слушайте, сограждане, я требую, чтобы этот сириец доказал измену Дидима, или я перед всеми назову его бесчестным, подкупленным клеветником!
– Ругательство из таких уст не может оскорбить, – возразил Филострат презрительным тоном. Однако прошло несколько секунд, пока он собрался с духом и обратился к толпе со всей энергией, на какую только был способен. – Чего я добиваюсь, сограждане? Ради чего я говорю с вами? Я честно стою за интересы царицы только потому, что меня побуждает к этому сердце! Чтобы отстоять единственно подходящее место для статуи в честь Клеопатры, я вступаю в спор с моим врагом, выслушиваю ругательства, которыми этот наглец хочет заставить меня молчать! Но я не раскаиваюсь в этом, хотя я восстаю против голоса природы: ведь бессовестный старик, о котором мы говорим, был и моим учителем и называл меня при свидетелях одним из лучших своих учеников, пока не отвратился, не стану говорить, по чьему наущению, от правды и добродетели. Да, одним из лучших, и уж во всяком случае, я был одним из благодарнейших! Я женился на его внучке. Я обладал ею…
– Обладал! – перебил Дион с негодованием. – После этого падаль, выброшенная морем, будет хвалиться, что обладала им!
Сириец так страшно изменился в лице, что даже при тусклом свете факелов окружающие заметили его смертельную бледность. На минуту он, казалось, потерял самообладание, но тут же оправился и воскликнул:
– Сограждане, дорогие друзья, призываю вас всех в свидетели бедствий, которые навлекла на меня, неопытного мужа, эта красивая, а еще больше развратная женщина…
Но ему не дали кончить, так как присутствующие, из которых многие знали блестящего, щедрого Диона и Барину, прекрасную певицу, участвовавшую в последнем празднике Адониса, разразились неодобрительными криками.
Впрочем, диспут не кончился бы так скоро, если б в эту минуту не овладели толпой беспокойство и страх. Послышались крики: «Назад, посторонитесь!», затем топот коней и команда начальника, появившегося во главе отряда ливийских всадников. Толпа, готовая при случае вступить в борьбу даже с вооруженной силой, на этот раз не чувствовала охоты рисковать жизнью, так как повод был незначительным. К тому же словесная распря неожиданно завершилась комическим приключением, и среди тревожных криков послышался громкий смех. Толпа, кинувшись к источнику, столкнула Филострата в бассейн. Случилось ли это нечаянно или с умыслом, невозможно было разобрать, но тщетные усилия сирийца выбраться из воды, хватаясь за гладкий, скользкий мрамор, и его плачевный вид после того, как чьи-то сострадательные руки помогли ему вылезти на площадь, были так смешны, что раздражение толпы сменилось веселым настроением. Послышались шуточки:
– Ему не мешает помыть руки; они почернели оттого, что он чернил Дидима, – крикнул один.
– Какой-то мудрый врач столкнул его в бассейн, – подхватил другой, – после трепки, которую он получил от Диона, ему полезна холодная ванна.
Регенту, приславшему отряд всадников, чтобы удалить толпу от дома Дидима, могло быть только приятно, что эта насильственная мера не встретила сопротивления.
Народ рассеялся и вскоре уже был привлечен новым происшествием у театра Диониса[24 - Дионис – бог виноградарства и виноделия.]. С его ступеней Анаксенор объявил о блистательной победе, одержанной Клеопатрой и Антонием, а затем пропел под звуки лютни гимн, глубоко тронувший сердца слушателей. Он уже давно сочинил его, и воспользовался первым же случаем – слухом, дошедшим до него во время завтрака в Канопе, чтобы исполнить его.
Как только площадь опустела, Барина оставила свой наблюдательный пост.
Никогда еще сердце ее не билось так сильно. Дион всегда нравился ей больше, чем кто-либо из ее обожателей; теперь же она почувствовала, что любит его. Конечно, его заступничество заслуживало искренней благодарности, оно показывало, что Дион посещал ее не только для того, чтобы убить время, как большинство гостей!
Для знатного молодого человека было не просто публично вступить в борьбу с бессовестным человеком, которому она когда-то принадлежала. И как легко он одолел страшного противника. При этом он выступил против своего могущественного дяди и, может быть, навлек на себя гнев Алексаса, брата Филострата, занимавшего первое место среди любимцев Антония. Это возвышало Барину в ее собственных глазах; она чувствовала, что Дион, не уступавший никому из знатных людей в городе, не решился бы на такой поступок ради какой-либо другой женщины.
С нее точно спали оковы.
– Полно, достойный муж, – перебил его казначей. – Всем в подлунном мире приходится подчиняться высшей воле; над богами владычествует судьба, над смертными – цари. Ты мудр и понимаешь, что я только исполняю свою обязанность! Но я знаю жизнь и, если позволишь, посоветую тебе подчиниться неизбежному. Ручаюсь, что ты не останешься в убытке, что царица даст тебе вознаграждение…
– Которого, – с горечью подхватил Дидим, – хватит, чтобы построить дворец на месте этого домишки. Но, – вспылил он снова, – мне не нужно ваших денег! Я не хочу уступать свое законом утвержденное право! За него я стою, и тот, кто осмелится посягнуть на мою собственность, которой владели мой отец и дед…
Тут он умолк, потому что на улице послышались восторженные крики; когда же они затихли и упрямый старик хотел продолжать свою речь, его перебил звонкий женский голос, обратившийся к нему с греческим приветствием: «Радуйся!», и звучавший так весело и приветливо, что тяжелое смущение, одевшее точно облаком лица присутствующих, почти рассеялось.
Пока одни прислушивались к гулу возбужденной толпы, а другие смотрели на старика, упорство которого вряд ли можно было преодолеть, молодежь уставилась на прекрасную женщину, только что вошедшую в комнату. Быстрая ходьба разрумянила ее щеки, обворожительное личико весело и приветливо глядело на сестру, деда и архитектора из-под голубого шарфа, обвивавшего белокурую головку.
Казначею и многим его спутникам показалось, будто само счастье посетило этот печальный дом, и у многих лица прояснились, когда старик совершенно другим тоном, чем прежде, воскликнул: «Ты здесь, Барина?», а она, не обращая внимания на присутствующих, нежно расцеловала его в обе щеки.
Елена, архитектор и старый философ Евфранор подошли к ней, и последний с ласковым упреком спросил:
– Сумасшедшая, как ты пробралась сюда сквозь эту ревущую толпу?
Она весело отвечала:
– Один ученый, член Музея, встречает меня вопросом, здесь ли я, хотя по милости дружелюбной или, – как ты думаешь на этот счет, дед? – враждебной судьбы я с детства была довольно заметной, другой укоряет за то, что я пробралась сквозь толпу, точно можно остановиться перед чем-либо, когда нужно помочь друзьям, которым приходится плохо. Но какой ужасный шум!
Она поднесла свои маленькие ручки к ушкам, прикрытым шарфом, и заговорила не прежде, чем шум утих, хотя и уверяла, что спешит и зашла только узнать, как дела.
Сестра и архитектор едва успевали отвечать на ее торопливые вопросы. Когда же она узнала, зачем явились сюда посторонние лица, то поблагодарила казначея и поспешила уверить его, что старые друзья ее деда постараются отвести от него эту неприятность.
На настойчивые вопросы обоих стариков, как она добралась сюда, Барина отвечала:
– Вы, может быть, не поверите, так как я ни на минуту не умолкаю, но я поступила, как бессловесная рыба, и приплыла сюда по воде.
Затем она отвела деда в сторону и шепотом сообщила ему, что Архибий встретился с ней в гавани, когда она собиралась сесть в лодку, и обещал зайти к ней вечером по важному делу. Ей нужно переговорить с глазу на глаз с этим почтенным человеком и потому она не может остаться. Тут она обратилась к присутствующим и спросила, почему народ так шумит.
Архитектор отвечал, что Филострат старается убедить толпу, будто единственное подходящее место для статуи – сад Дидима, и прибавил, что знает, по чьему наущению тот действует.
– Во всяком случае, не по наущению регента, – заверил казначей.
Барина, веселое личико которой слегка затуманилось при упоминании имени оратора, ответила ему легким кивком и шепнула, что берется переговорить со стариком, лишь бы ему дали время одуматься.
Завтра утром чиновники смогут исполнить свою обязанность, если регент не откажется от своего намерения. Она между тем постарается уговорить деда, хотя он и не из податливых. Казначей же со своей стороны может напомнить регенту, что в такое время следует избегать открытых столкновений и следовало бы уважить лета и права Дидима.
Пока Аполлоний разговаривал со своими спутниками, Барина подозвала архитектора и простилась с родными. Ей, сказала она, не угрожает никакая опасность, тем более, что и на этот раз она удалится, как рыба, но пустит в ход язык и поговорит с таким человеком, который давно бы уже защитил Дидима, если бы царица была здесь.
До сих пор глаза и уши всех присутствующих были обращены к ней. Всякому хотелось любоваться и слушать ее.
Лишь после ее ухода чиновники удалились со своими спутниками, чтобы еще раз переговорить с регентом по поводу этого неприятного происшествия.
На этот раз Горгий неохотно следовал за молодой женщиной. Не далее как час тому назад он почел бы за счастье сопровождать и охранять Барину, теперь же ему приятнее было бы остаться с ее сестрой, которая так благодарно и вместе с тем так скромно ответила на его прощальные слова. Но и для самых непостоянных людей заменить старую привязанность новой все же не так легко, как черную фигуру в шахматах сменить на белую, так что ему и теперь было очень приятно находиться рядом с Бариной. Только мысль, что Елена может подумать, будто он находится в близких отношениях с ее сестрой, несколько смущала его.
В саду Барина попросила его помочь ей взобраться по узкой лесенке на плоскую кровлю домика привратника.
Отсюда они могли видеть все, что происходило на площади, причем оставаясь незамеченными, так как вокруг домика росли густые лавры. Перед обоими храмами пылали сосуды с варом, бросавшие на площадь яркий свет, который еще усиливался благодаря факелам в руках скифской стражи. Но все равно в толпе нельзя было разобрать отдельных фигур. Только мраморные стены храмов, статуи перед домом Дидима, гермы[22 - Герма – четырехгранный столб со скульптурным завершением, вид декоративной и парковой скульптуры.] по сторонам улицы, ведущей от северной части «уголка муз» к морскому берегу, выступали из темноты, сверкая при свете пылавшей смолы, а дым от факелов заволакивал небо, скрывая блеск звезд. Из людей, столпившихся на площади, ясно видны были только Дион, стоявший у подножия закутанной статуи, и Филострат, взобравшийся на одного из дельфинов, окружавших источник между храмом Изиды и улицей. Их разделяло пространство шагов в десять, позволявшее слышать друг друга. И на них-то было обращено всеобщее внимание. Подобные ораторские состязания составляли одно из любимых развлечений александрийцев, которые встречали каждый удачный оборот одобрительными восклицаниями, а каждое почему-либо не понравившееся им слово криком, свистками и шиканьем.
Барина могла видеть и слышать все, что происходило перед ней. Раздвинув скрывавшие ее ветви, она прислушалась к спору. Когда негодяй, которого она когда-то называла своим мужем, а теперь презирала так глубоко, что не могла даже ненавидеть, задел ее родных, сказав, что они из поколения в поколение кормятся за счет Музея, она закусила губы. Но вскоре ее рот слегка искривился гримасой, как будто ей противно было слушать; в эту минуту Филострат обратился к Диону, обвиняя его в том, что тот хочет помешать регенту увековечить славу великой царицы и обрадовать ее благородное сердце.
– Мой язык, – воскликнул он, – орудие, которое меня кормит! Ради чего я, усталый и изможденный, обращаюсь к вам с речью? Ради нашей великой царицы Клеопатры и ее великодушного друга, которому каждый из нас обязан каким-нибудь благодеянием. Кто любит ее и божественного Антония, нового Геркулеса и Диониса, – скоро они вернутся к нам с победным венком! – тот не задумается вместе с регентом и со всеми благородными людьми отобрать жалкий клочок земли у старого скряги, который держится за него так упрямо и с умыслом!.. Слышите ли, с умыслом! А каким – не стану говорить: это слишком отвратительно, да я и не доносчик. Если же кто стоит за старого пачкуна, извергающего книги, как этот дельфин воду, – пусть себе, я ему не позавидую. Но пусть он сначала посмотрит на союзника Дидима. Вон он стоит передо мной. Лучше бы было, если бы он превратился в камень, а дельфин у его ног – в живое существо. Тогда, по крайней мере, ему можно было бы остаться в тени! Ну, а теперь я должен вытащить его оттуда, я должен показать вам Диона, сограждане, хотя мне приятнее было бы говорить о вещах, которые менее возбуждают желчь! Тусклый свет не позволяет вам различить цвет его плаща, но я видел его днем. Это гиацинтовый пурпур! Вы знаете, сколько стоит такая мантия. Любой из вас мог бы десять лет прокормить на нее жену и детей! «Должно быть, много в мошне у господина, который решается подставлять такое сокровище дождю и ветру!» – подумает каждый, глядя, как он щеголяет, точно павлин. Да, у него в мошне много талантов![23 - Талант – в данном случае, самая крупная весовая и денежно-счетная единица того времени. Во времена Александра Македонского талант был равен 25,9 кг золота.] Нехорошо только, что почти каждый из вас должен отнимать хлеб у своей семьи, глоток вина у себя самого, чтобы наряжать таких господ! Его отец, Эвмен, был сборщиком податей, и вот на те деньги, которые этот кровопийца вытянул у вас и ваших детей, его сынок рядится в пурпур и разъезжает в колеснице четверней, забрызгивая вас грязью! Как вам это понравится? Много ли он весит, этот молодчик, но ему, изволите видеть, необходима четверня, чтобы разъезжать по улицам. А знаете ли, почему? Я вам скажу. Потому что он боится застрять где-нибудь, споткнуться, как и в речах спотыкается!
Тут Филострат остановился, так как его шутка вызвала смех у некоторых слушателей. Но Дион, отец которого, занимавший важный пост сборщика податей, действительно увеличил свое состояние, не остался в долгу.
– Так, так, – подхватил он презрительно, – сирийский болтун на этот раз не ошибся! Вот он передо мной, и кто же не споткнется, увидев перед собой вонючее болото? Что касается пурпурного плаща, то я ношу его, потому что он мне нравится. Мне не по вкусу желтый плащ Филострата. Конечно, при солнечном свете он довольно ярок. Он напоминает одуванчик. Вы знаете этот цветок? Когда он отцветает, – а вы сами видите, похож ли Филострат на нераспустившуюся почку, – то превращается в пустой шар, разлетающийся от дыхания ребенка. Не назвать ли нам эти цветки «филостратовыми головками»? А, вы одобряете мое предложение? Очень рад, сограждане, благодарю вас! У вас есть вкус! Вернемся же к моему сравнению. В каждой голове есть язык, есть он и у Филострата, и по его же словам, это орудие, которое его питает!
– Что вы слушаете этот золотой мешок, этого врага народа! – бешено перебил Филострат. – Видите, по его мнению, честная работа унижает гражданина!
– О честной работе и речи не было, любезнейший, – возразил Дион. – Я говорил только о твоем языке. Вы понимаете меня, сограждане! Впрочем, может быть, не всякий из вас имел дело с этим почтенным человеком; так я объясню вам, что он такое: я его хорошо знаю! Если кому случится вести какой-нибудь скверный, постыдный процесс, советую обратиться к этому человеку. Поверьте мне, дело Дидима уже потому правое, что он так нападает на него! Я уже объяснял вам, что это за дело. Кто из вас, имея сад, может сказать: он мой, если, пользуясь отсутствием царицы, у вас начнут отбирать его. А саду Дидима угрожает именно такая участь. Если это обратится в правило, опасайтесь сеять или сажать что-нибудь на своей земле; прежде чем ваши семена взойдут, у вас могут отнять ваш участок, если супруга какого-нибудь знатного лица вздумает сушить на нем белье!
Одобрительные восклицания послышались в ответ на эти слова; Филострат же прокричал во все горло:
– Послушайте меня, сограждане, не поддавайтесь обману! Никого не собираются ограбить! Хотят приобрести за крупное вознаграждение участок земли, чтобы украсить город, а вместе с тем почтить и порадовать царицу. Неужели же регент и граждане должны отказаться от случая выразить свою радость и благодарность по поводу величайшей победы, о которой мы скоро услышим, только потому, что их план не нравится злому человеку, скажу прямо, врагу отечества!
– Вот теперь я на краю болота, – живо возразил Дион, – и, пожалуй, мне в самом деле придется споткнуться! Нужно большое присутствие духа, чтобы не прикусить язык, слушая такую бесстыдную, такую ядовитую клевету! Вы знаете, сограждане, сколько лет семья Дидимов из поколения в поколение живет в этом домике, создавая замечательные труды; вы знаете, что старец, о котором идет речь, был наставником царских детей!
– А все-таки, – крикнул Филострат, – он совсем недавно прогуливался под руку с Арием, другом Октавиана, заклятого врага царицы! Да я сам слышал и другие слышали, как Дидим называл этого самого Ария своим любимым учеником!
– Вот назвать так тебя, – возразил его противник, – постыдился бы последний школьный учитель! Да если б даже тебя отдали в учение не к риторам, а к селедочным торговцам, то всякий порядочный человек из них постыдился бы такого ученика, потому что они продают хороший товар за медные деньги, а у тебя за золото можно купить только мерзости! Теперь ты отрабатываешь его, стараясь замарать честное имя достойного человека. Но я не потерплю этого! Слушайте, сограждане, я требую, чтобы этот сириец доказал измену Дидима, или я перед всеми назову его бесчестным, подкупленным клеветником!
– Ругательство из таких уст не может оскорбить, – возразил Филострат презрительным тоном. Однако прошло несколько секунд, пока он собрался с духом и обратился к толпе со всей энергией, на какую только был способен. – Чего я добиваюсь, сограждане? Ради чего я говорю с вами? Я честно стою за интересы царицы только потому, что меня побуждает к этому сердце! Чтобы отстоять единственно подходящее место для статуи в честь Клеопатры, я вступаю в спор с моим врагом, выслушиваю ругательства, которыми этот наглец хочет заставить меня молчать! Но я не раскаиваюсь в этом, хотя я восстаю против голоса природы: ведь бессовестный старик, о котором мы говорим, был и моим учителем и называл меня при свидетелях одним из лучших своих учеников, пока не отвратился, не стану говорить, по чьему наущению, от правды и добродетели. Да, одним из лучших, и уж во всяком случае, я был одним из благодарнейших! Я женился на его внучке. Я обладал ею…
– Обладал! – перебил Дион с негодованием. – После этого падаль, выброшенная морем, будет хвалиться, что обладала им!
Сириец так страшно изменился в лице, что даже при тусклом свете факелов окружающие заметили его смертельную бледность. На минуту он, казалось, потерял самообладание, но тут же оправился и воскликнул:
– Сограждане, дорогие друзья, призываю вас всех в свидетели бедствий, которые навлекла на меня, неопытного мужа, эта красивая, а еще больше развратная женщина…
Но ему не дали кончить, так как присутствующие, из которых многие знали блестящего, щедрого Диона и Барину, прекрасную певицу, участвовавшую в последнем празднике Адониса, разразились неодобрительными криками.
Впрочем, диспут не кончился бы так скоро, если б в эту минуту не овладели толпой беспокойство и страх. Послышались крики: «Назад, посторонитесь!», затем топот коней и команда начальника, появившегося во главе отряда ливийских всадников. Толпа, готовая при случае вступить в борьбу даже с вооруженной силой, на этот раз не чувствовала охоты рисковать жизнью, так как повод был незначительным. К тому же словесная распря неожиданно завершилась комическим приключением, и среди тревожных криков послышался громкий смех. Толпа, кинувшись к источнику, столкнула Филострата в бассейн. Случилось ли это нечаянно или с умыслом, невозможно было разобрать, но тщетные усилия сирийца выбраться из воды, хватаясь за гладкий, скользкий мрамор, и его плачевный вид после того, как чьи-то сострадательные руки помогли ему вылезти на площадь, были так смешны, что раздражение толпы сменилось веселым настроением. Послышались шуточки:
– Ему не мешает помыть руки; они почернели оттого, что он чернил Дидима, – крикнул один.
– Какой-то мудрый врач столкнул его в бассейн, – подхватил другой, – после трепки, которую он получил от Диона, ему полезна холодная ванна.
Регенту, приславшему отряд всадников, чтобы удалить толпу от дома Дидима, могло быть только приятно, что эта насильственная мера не встретила сопротивления.
Народ рассеялся и вскоре уже был привлечен новым происшествием у театра Диониса[24 - Дионис – бог виноградарства и виноделия.]. С его ступеней Анаксенор объявил о блистательной победе, одержанной Клеопатрой и Антонием, а затем пропел под звуки лютни гимн, глубоко тронувший сердца слушателей. Он уже давно сочинил его, и воспользовался первым же случаем – слухом, дошедшим до него во время завтрака в Канопе, чтобы исполнить его.
Как только площадь опустела, Барина оставила свой наблюдательный пост.
Никогда еще сердце ее не билось так сильно. Дион всегда нравился ей больше, чем кто-либо из ее обожателей; теперь же она почувствовала, что любит его. Конечно, его заступничество заслуживало искренней благодарности, оно показывало, что Дион посещал ее не только для того, чтобы убить время, как большинство гостей!
Для знатного молодого человека было не просто публично вступить в борьбу с бессовестным человеком, которому она когда-то принадлежала. И как легко он одолел страшного противника. При этом он выступил против своего могущественного дяди и, может быть, навлек на себя гнев Алексаса, брата Филострата, занимавшего первое место среди любимцев Антония. Это возвышало Барину в ее собственных глазах; она чувствовала, что Дион, не уступавший никому из знатных людей в городе, не решился бы на такой поступок ради какой-либо другой женщины.
С нее точно спали оковы.