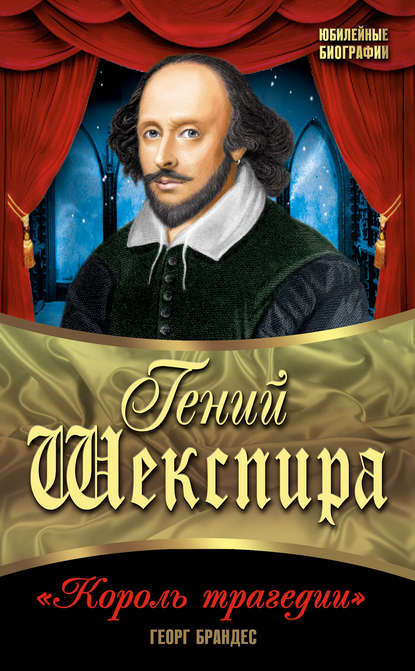По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Гений Шекспира. «Король трагедии»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Положительно удивительны последние слова его речи:
Им наших жен? Им наших дочерей?
Им наши земли? Чу! их барабаны!
На бой, дворяне Англии!
На бой, Британии лихие поселяне!
Стрелки, вперед, – и бейте прямо в сердце!
Ломайте копья, небесам на страх.
Сильней, сильней и вскачь по лужам крови!
Входит гонец.
Король Ричард
Ну, что же Стэнли? Где его войска?
Гонец
Мой государь, идти он отказался.
Король Ричард
Георгу Стэнли голову долой!
Норфолк
Враги уже болото перешли.
Окончив бой, его казнить успеем.
Король Ричард
В груди забилась тысяча сердец.
Вперед, знамена! Прямо на врага!
Святой Георг! Пусть древний бранный клич
Вдохнет в нас ярость огненных драконов!
Спустилася победа нам на шлемы!
Вперед – и на врага!
Потом он убивает одного за другим пятерых рыцарей в доспехах Ричмонда. Его конь убит. Он, пеший, в шестой раз ищет Ричмонда:
Коня, коня! Престол мой за коня!
Кетсби
Вам конь готов. Спасайтесь, государь!
Король Ричард
Прочь, раб!
Я жизнь мою на карту ставлю,
И я дождусь, чем кончится игра!
Шесть Ричмондов, должно быть, вышло в поле:
Я пятерых убил, а не его!
Коня, коня! Престол мой за коня!
Нет сомнения, что ни в какой другой шекспировской пьесе главное действующее лицо не господствует до такой степени над остальными. Ричард поглощает почти весь интерес, и только великое искусство Шекспира заставляет нас, вопреки всему, с участием следить за ним. Это, в известной мере, зависит от того, что некоторые из его жертв так ничтожны; судьба их представляется нам заслуженной. Слабохарактерность Анны лишает ее нашего сочувствия, и, кроме того, кровавое злодеяние Ричарда кажется нам менее ужасным, когда мы видим, как легко оно прощается ему тою, сердце
которой оно всего больнее должно было поразить. Несмотря на все свои пороки, он имеет остроумие и мужество, – остроумие, возвышающееся порою до мефистофелевского юмора, – мужество, не изменяющее ему даже в минуту гибели и окружающее его падение таким блеском, какого не имеет торжество его корректного противника. Как ни лжив и лицемерен он по отношению к другим, перед самим собой он никогда не лицемерит; он химически чист от самоукрашения, до того, что сам себе дает самые унизительные наименования. Эта искренность, таящаяся в глубине его существа, действует привлекательным образом. Кроме того, он имеет за себя еще то, что угрозы и проклятия от него отскакивают, что его не пугают ни ненависть, ни оружие, направленное против него, ни перевес на стороне врага; сила характера столь редкая вещь, что даже к преступнику вызывает симпатию. Быть может, если бы Ричарду был дарован более продолжительный срок правления, он остался бы в истории королем типа Людовика XI, злокозненным, всегда прикрывающимся религией, но умным и твердым. Теперь же он и в действительности, как в драме, провел все время в усилиях упрочить за собою место, которое он отвоевал себе, как хищный зверь. Его внешний облик стоит перед нами так, как изображали его современники: маленького роста и крепкого сложения, с приподнятым правым плечом, с красивыми каштановыми волосами, ниспадающими на плечи, чтобы скрыть их уродливость; он постоянно закусывает нижнюю губу, постоянно тревожен, постоянно выдергивает и снова прячет в ножны свой кинжал, но никогда среди разговора не обнажает его совсем. Шекспир сумел озарить ореолом поэзии эту гиену в человеческом виде.
Самый яркий контраст Ричарду представляют две детские фигуры, сыновья Эдуарда. Старший мальчик уже занят великими помыслами, склад ума у него царственный, он глубоко проникнут тем, что значат исторические подвиги; тот факт, что Юлий Цезарь построил Тауэр, должен бы, даже и не внесенный в летописи, переходить из рода в род. Он поглощен мыслью о том, что как подвиги Цезаря давали материал его гению, так его гений давал его подвигам жизнь, и он с жаром восклицает: «Героя победы не победила смерть!» Младший брат по-детски остроумен, полон забавных выходок, полон ребяческих насмешек над безобразной фигурой дяди
и невинной радости при виде кинжалов и мечей. Шекспир в нескольких штрихах наделил этих малолетних братьев невыразимой прелестью. Убийцы плачут, как дети, делая доклад об их смерти:
…Так они лежали,
Обняв друг друга.
………………………….
Как на одном стебле четыре розы
Пурпурные блистают в летний день,
Так целовались губы спящих братьев.
Наконец, вся трагедия жизни и смерти Ричарда точно вставлена в рамку женской печали и насквозь пронизана женскими воплями. По своей внутренней форме она имеет сходство с греческой трагедией, подобно тому, как и фактически образует собой последнее звено тетралогии.
Нигде Шекспир не стоит так близко к классическому направлению драмы, развившемуся в Англии по образцу Сенеки.
Все исходит здесь от проклятия, которое Йорк в третьей части «Генриха VI» (I, 4) изрекает над головой Маргариты Анжуйской. Она глумилась над своим пленным врагом, она вонзила кинжал в сердце его сыну, малолетнему Рутленду, и подала отцу платок, смоченный его кровью. За это она теряет своего мужа и корону, своего сына, принца Уэльского, своего любовника Суффолка, – все, что привязывает ее к жизни.
Но теперь и для нее наступило время отмщения. Поэт хотел олицетворить в ней древнюю Немезиду; он придал ей размеры, превышающие действительность, и поставил ее вне условий действительной жизни. Она, изгнанница, беспрепятственно возвращается в Англию, бродит по замку Эдуарда IV и дает полную волю своей ненависти и ярости в присутствии его самого, его родственников и придворных. Точно так же бродит она и при Ричарде III, единственно для того, чтобы проклинать своих врагов, и эти проклятия даже у Ричарда вызывают порой суеверный трепет.
Никогда после того Шекспир не удалялся до такой степени от возможного с целью достигнуть сценического воздействия. И все же сомнительно, чтобы оно им достигалось здесь. При чтении все эти проклятия, конечно, потрясают нас с необычайной силой; на сцене же Маргарита, нарушающая и замедляющая ход действия, но ни разу не вступающая в него, может только утомлять. Впрочем, даже и не вступая в действие, она все же производит достаточно сильное впечатление. Все, кого она прокляла, все умирают, – король и его малолетние дети, Риверс и Дорсет, лорд Гастингс и т. д.
Она встречается с герцогиней Йоркской, матерью Эдуарда IV, и с королевой Елизаветой, его вдовой, под конец и с Анной, так нагло добытой и так скоро покинутой Ричардом. И из уст всех этих женщин снова и снова раздаются в рифмованных стихах, точно в греческом хоре, проклятия и стоны в могучем лирическом стиле. В двух главных местах (II, 2, и IV, 1) они поют настоящие хоры в форме реплик.
Прочтите эти строки, как образчик лирического тона дикции:
Герцогиня Йоркская
(Дорсету)
Беги же к Ричмонду
И счастлив будь!
(Леди Анне.)
Ты к Ричарду иди и пусть тебя
Хранят святые ангелы.
(Кор. Елизавете.)
Не медли,
Укройся в храме и молися там!
А мне – одна могила остается:
Там я найду покой и тишину.
Я восемьдесят горьких лет прожила,
За каждый час платя неделей горя.
Вот каково это юношеское произведение, где все твердо, все богато и уверенно, не все одинаково хорошо. Все здесь разработано только на поверхности; действующие лица сами говорят, что они такое, и все они, буйные и кроткие, прозрачны и слишком знают самих себя. Каждое из них вполне высказывает себя в монологах, и над каждым отдельным лицом произносится приговор как бы в пении античного хора.
Другие электронные книги автора Георг Моррис Кохен Брандес
Другие аудиокниги автора Георг Моррис Кохен Брандес
Бальзак




 0
0