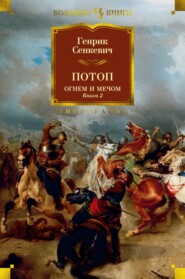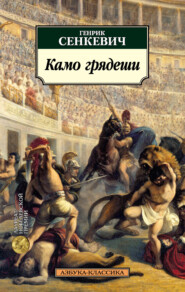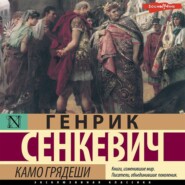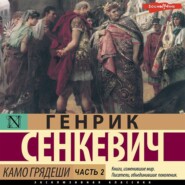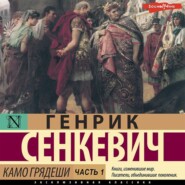По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Камо грядеши
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ах, Актея! – воскликнула Лигия. – Петроний был у нас накануне, и моя мать уверена, что Нерон потребовал меня по его совету.
– Это было бы плохо, – сказала Актея. Подумав немного, она продолжала: – Но возможно, что Петроний проболтался за ужином, что видел у Авла заложницу лигийцев, и Нерон, ревнивый к своей власти, потребовал тебя лишь потому, что заложницы принадлежат цезарю. Он к тому же не любит Авла и Помпонию… Я не думаю, чтобы Петроний, желая отнять тебя у Авла, прибег к такому способу… Не знаю, лучше ли Петроний тех людей, которые окружают цезаря, но он во всяком случае не похож на них… Может быть, кроме него ты знаешь кого-нибудь, кто мог бы просить за тебя? Не видел ли тебя у Авла близкий к цезарю человек?
– У нас бывали Веспасиан и Тит…
– Цезарь не любит их.
– Сенека…
– Достаточно Сенеке посоветовать что-нибудь, и цезарь поступит как раз наоборот.
Бледное лицо Лигии слегка разрумянилось.
– И Виниций…
– Я не знаю его.
– Племянник Петрония, вернувшийся недавно из Армении…
– Ты думаешь, что цезарь рад его видеть?
– Виниция все любят.
– И он мог бы просить за тебя?
– Да.
Актея улыбнулась и сказала:
– Ты, вероятно, увидишь его на пиру. Ты должна присутствовать на нем непременно. Только такой ребенок, как ты, мог подумать иначе. Если хочешь вернуться в дом Авла, ищи случая попросить Петрония и Виниция, чтобы они своим влиянием выхлопотали тебе право возвращения. Если бы они были здесь сейчас, оба сказали бы тебе то же, что и я: безумие и гибель оказывать неповиновение. Правда, цезарь мог бы не заметить твоего отсутствия, но если бы он заметил и подумал, что ты противишься его воле, то для тебя не было бы спасения. Иди, Лигия… Слышишь шум в доме? Солнце садится, и гости скоро начнут собираться.
– Ты права, Актея, – ответила Лигия, – я последую твоему совету.
Сколько в этом решении было желания увидеться с Виницием и Петронием, сколько женского любопытства хоть раз в жизни увидеть пир, на нем самого цезаря, двор, знаменитую Поппею и других красавиц и всю неслыханную пышность, о которой рассказывали в Риме чудеса, – сама Лигия, вероятно, не сумела бы ясно отдать себе отчета. Но Актея была права, и девушка понимала это. Идти на пир было необходимо, а раз необходимость и рассудок поддерживали тайное искушение, Лигия перестала колебаться.
Актея отвела Лигию в свою комнату, чтобы одеть ее, и хотя в доме цезаря не было недостатка в рабынях и у Актеи их было достаточное число для личных услуг, она из сочувствия к девушке, невинность и красота которой глубоко растрогали ее, решила лично заняться ее туалетом. И тотчас оказалось, что в молодой дочери Греции, несмотря на ее печаль и внимательное чтение писем Павла из Тарса, много еще осталось старой эллинской души, для которой красота тела говорит сильнее, чем все другое на свете. Раздев Лигию и увидев формы ее тела, словно вылитые из жемчуга и роз, полные и стройные, она не могла удержаться от крика удивления и, отступив на несколько шагов, с восторгом смотрела на эту несравненную весеннюю красоту.
– Лигия! – воскликнула она наконец. – Ты в сто раз красивее Поппеи!
Девушка, воспитанная в строгом доме Помпонии, где скромность была обязательна даже в присутствии одних женщин, стояла чудесная, как сновидение, гармоничная, как произведение Праксителя, как воплощенная песнь, но смущенная, розовая, со сжатыми коленями, с руками на груди, с опущенными вниз глазами. Потом, вдруг подняв к голове руки и вынув шпильки, поддерживающие волосы, она тряхнула головой и мгновенно покрылась ими, как плащом.
Актея подошла к ней ближе и сказала:
– Какие волосы!.. Я не осыплю их золотой пудрой, они сами отливают золотом… Разве чуть-чуть, чтобы заставить их сиять, как отблеск солнца… Чудесный ваш край лигийский, где родятся такие девушки.
– Я не помню родины, – ответила Лигия. – Урс говорит, что у нас только леса, леса и леса…
– А в лесах цветут такие цветы, – сказала Актея, макая руки в сосуд с вербеной и увлажняя ими волосы Лигии.
Потом она стала слегка натирать тело девушки благовонными аравийскими мазями, после чего одела ее в золотистую тунику без рукавов, на которую потом Лигия должна была надеть белоснежный пеплум. Но раньше нужно было причесать волосы, поэтому она закутала девушку широким покрывалом и, усадив в кресло, поручила ее рабыням, чтобы самой издали наблюдать за причесыванием. Две рабыни тем временем надевали на ноги Лигии белые, шитые пурпуром сандалии, переплетая накрест золотые тесемки. Когда прическа была закончена, на Лигию надели пеплум, легкие складки которого были старательно уложены, после чего Актея застегнула жемчужное ожерелье на шее девушки и слегка попудрила ей волосы. Затем она велела одевать себя, не спуская все время восхищенных глаз с Лигии.
Она скоро была готова, и когда у главных ворот стали появляться первые лектики[42 - Лектика – носилки.], они вошли в боковой портик, откуда виден был главный вход, внутренние галереи и двор, окруженный колоннадой из нумидийского мрамора.
Все больше и больше гостей проходило в высокие ворота, над которыми великолепная квадрига Лизия, казалось, уносила в воздух Аполлона и Диану. Лигия была изумлена пышностью, о которой не мог ей дать понятия скромный дом Авла. Был закат, и последние лучи солнца падали на желтый нумидийский мрамор колонн, отливавший золотом и в то же время отражавший розовый блеск зари. Под колоннами возле белых статуй Данаид, богов и героев проходили толпы народа, мужчин и женщин, похожих на оживленные статуи, закутанных в тоги, пеплумы и столы, мягкими складками спадающие книзу, на которых также догорал блеск заходящего солнца. Огромный Геркулес, с головой, освещенной солнцем, и грудью, погруженной в тень, падавшую от колонны, смотрел сверху на эту толпу. Актея показывала Лигии сенаторов в тогах с широкими полосами, цветных туниках и с полумесяцем на обуви; военачальников, знаменитых художников, знатных женщин, одетых по-римски, по-гречески или же в фантастические восточные наряды, женщин с прическами в виде башни, пирамиды или с низкими, наподобие причесок мраморных богинь, увенчанных цветами. Многих мужчин и женщин называла Актея по имени, рассказывая о них краткие и подчас ужасные истории, от которых Лигия испытывала страх и удивление. Это был для нее странный мир, красотой которого упивался ее взор, но противоречий которого не мог понять ее девичий разум. В вечерней заре, в лесе недвижных колонн, уходивших вдаль, в людях, похожих на статуи, – во всем этом был некий великий покой; казалось, что здесь должны жить какие-то чуждые забот, спокойные и счастливые полубоги, между тем как тихий голос Актеи раскрывал одну за другой страшные тайны и этого дворца, и этих людей. Вот там издали виден портик, на колоннах которого и на полу еще не стерлись пятна крови, которой обагрил белоснежный мрамор Калигула, павший от ножа Кассия Хереи; там была убита его жена; там был разбит о камни ребенок; а под тем крылом скрыто подземелье, в котором грыз себе руки заморенный голодом младший Друз; там отравили старшего Друза, там извивался в судорогах Гемелл, там умирал Клавдий, там Германик, – всюду эти стены слышали стоны и хрипенье умирающих; а те люди, которые теперь спешат на пир, в тогах, разноцветных туниках, украшенные цветами и драгоценностями, завтра, может быть, будут осуждены на смерть. Не на одном лице под улыбкой таится страх, волнение, неуверенность в завтрашнем дне; ненависть, жадность, зависть таятся на сердце этих с виду беззаботных, увенчанных полубогов. Взволнованная мысль Лигии не успевала следить за словами Актеи, и в то время, как этот чудесный мир привлекал с все возраставшей силой взоры, в душе ее вдруг возникла несказанная, безмерная тоска по любимой Помпонии и спокойном доме Авла, где царила любовь, а не преступление.
Прибывали все новые волны гостей. У ворот раздавались крики и говор клиентов, провожавших своих покровителей. Двор и колоннады наполнились множеством рабов и рабынь цезаря, детей и преторианцев, державших караул во дворце. Среди белых или бронзовых лиц иногда мелькало негритянское черное, в шлеме, украшенном перьями, и с золотыми серьгами в ушах. Несли лютни, кифары, корзины цветов, несмотря на позднюю осень, светильники золотые, серебряные и медные. Громкие разговоры смешивались с плеском водометов, розовые от вечерних блесков струи которых, падая сверху на розовый мрамор, разбивались с шумом, похожим на рыдание.
Актея перестала рассказывать, но Лигия не отрываясь смотрела на толпу, словно искала кого-то. И вдруг лицо ее вспыхнуло. Из-за колонн показались Виниций и Петроний; они шли к большому триклинию, прекрасные, важные, в своих тогах похожие на беломраморных богов. Когда Лигия увидела среди чужих людей эти два знакомых дружеских лица, особенно когда увидела Виниция, она сразу почувствовала в душе большое облегчение. Она была неодинока. Безмерная тоска по дому, Помпонии и Авлу, волновавшая минуту назад, перестала мучить ее. Искушение увидеть Виниция и говорить с ним заглушило иные голоса. Напрасно она вспоминала все дурное, что слышала о доме цезаря, и рассказ Актеи, и слова Помпонии, – несмотря на эти слова и рассказы, она вдруг почувствовала, что не только должна быть на пиру, но и хочет присутствовать на нем. При мысли, что через минуту услышит милый, любимый голос, который твердил ей о любви и счастье, достойном богов, и который до сих пор звучит в ее душе, как песня, Лигию охватила радость.
И вдруг она испугалась этой своей радости. Ей показалось, что она изменила чистому учению, в котором была воспитана, изменила Помпонии и самой себе. Далеко не одно и то же – идти на пир по принуждению или радоваться необходимости присутствовать на нем. Лигия почувствовала себя виноватой, недостойной, погибшей. Ее охватило отчаяние, она готова была разрыдаться. Если бы она была одна, она опустилась бы на колени и, ударяя себя в грудь, покаянно шептала бы: «Помилуй меня, грешную, помилуй!» Но Актея взяла ее за руку и повела внутренними покоями в триклиниум, где должен был состояться пир. У Лигии потемнело в глазах от волнения и душевной борьбы, шумело в ушах, захватывало дыхание, сжималось сердце. Словно во сне она увидела тысячи светильников на стенах, столах, услышала крик, которым гости приветствовали цезаря, сквозь туман увидела его самого. Крик оглушил ее, блеск ослепил, от ароматов кружилась голова, и она потеряла остаток самообладания. Актея, поместив ее у стола, возлегла с ней рядом.
Через несколько минут низкий знакомый голос прозвучал около нее с другой стороны:
– Привет тебе, прекраснейшая из земных девушек и звезд небесных! Здравствуй, божественная Каллина!
Лигия, придя в себя, оглянулась: рядом с ней возлежал Виниций.
Он был без тоги: ради удобства обычай требовал, чтобы тогу снимали во время пира. На нем была ярко-красная туника без рукавов, расшитая серебром. Обнаженные руки по восточному обычаю украшены были двумя широкими золотыми запястьями выше локтей; а ниже они были гладкие, очищенные от растительности, сильные, мускулистые, как у настоящего воина, словно нарочно созданные для меча и щита. Голова была увенчана розами. С бровями, тесно сходившимися на переносице, прекрасными глазами и смуглым лицом, Марк был воплощением молодости и силы, он показался Лигии до такой степени красивым, что она, хотя ее первое волнение и прошло, едва смогла ответить:
– И мой привет тебе, Марк!
Он говорил:
– Счастливы глаза мои, увидевшие тебя; счастливы уши, которые слышат голос твой, более милый для меня, чем звуки флейт и кифары. Если бы мне дано было выбрать, кто будет возлежать со мной рядом на этом пиру, ты или Венера, я выбрал бы тебя, божественная Лигия!
И он жадно смотрел на нее, словно хотел насытиться ее видом, и сжигал ее своим взором. Его глаза скользили по ее лицу, шее, обнаженным рукам, он любовался прекрасными формами, ласкал ее своим взглядом, и кроме страсти светилось в нем также счастье, и чистая любовь, и восторг без границ.
– Я знал, что мы встретимся в доме цезаря, – говорил он, – но при виде тебя душа моя испытала такую радость, словно на мою долю выпало нечаянное счастье.
Лигия, придя в себя и чувствуя, что в этой чужой толпе, в этом доме Виниций – единственный близкий ей человек, стала говорить с ним и расспрашивать его обо всем, что было ей непонятно и что вселяло в нее страх. Откуда он узнал, что встретит ее в доме цезаря, и почему она здесь? Зачем цезарь разлучил ее с Помпонией? Лигии страшно здесь, и она хочет вернуться к матери. Она умерла бы от тоски и страха, если бы не надежда, что Петроний и он попросят за нее цезаря.
Виниций сказал, что обо всем он узнал от Авла. Почему она здесь, он не знает. Цезарь никому не дает отчета в своих делах и повелениях. Но пусть она не боится. Ведь он, Виниций, около нее и останется с ней. Он предпочел бы ослепнуть, чем не видеть ее, потерять жизнь, чем покинуть Лигию. Она – его душа, и он будет беречь ее, как душу. Он поставит ей в своем доме алтарь, как своему божеству, на котором будет приносить жертвы – мирру и алоэ, а весной – молодой цвет яблони… Если она боится оставаться в доме цезаря, то он обещает ей, что она здесь не останется.
И хотя он говорил двусмысленно и порою лгал, в голосе звучала искренность, потому что искренни были его чувства. Его охватила жалость к ней, и слова ее глубоко проникали в его душу, когда она стала благодарить его, говоря, что Помпония полюбит его за добрые чувства, а сама она будет всю жизнь благодарна ему; он едва совладал с своим волнением, и ему казалось, что никогда в жизни он не сможет отказать ей в просьбе. Сердце его стало смягчаться. Красота пленила его душу, он жаждал ее и в то же время чувствовал, что Лигия дорога ему и что он действительно способен молиться на нее, как на божество; он чувствовал неодолимую потребность говорить о ее красоте и о своей любви, и, так как шум в триклиниуме значительно усилился, он подвинулся к ней ближе и стал нашептывать ласковые, идущие из глубины души признания, звучные, как музыка, и пьянящие, как вино.
И он опьянял Лигию. Среди чужих людей, которые окружали ее, он казался ей близким, милым, на него можно было положиться, он был предан ей всей душой. Он успокоил ее, обещал вырвать из дома цезаря, обещал не покидать и всегда служить ей. Кроме того, раньше он говорил с ней в доме Авла лишь вообще о любви и о том счастье, какое она может дать, а теперь он определенно признался, что любит ее, что она ему милей и дороже всех женщин. Лигия впервые слышала такие слова из уст мужчины, и по мере того как слушала их, ей казалось, что в душе ее что-то просыпается, ее охватывает какое-то счастье, в котором безмерная радость смешана со странной тревогой. Ее щеки горели, сердце стучало, губы полуоткрылись, словно от удивления. Ей было страшно слушать такие вещи, и в то же время она боялась упустить хоть одно слово. Иногда она опускала глаза и снова поднимала на Виниция лучистый взор, испуганный и в то же время вопрошающий, словно хотела сказать ему: «Говори, говори еще!» Говор, музыка, благоухание цветов и аравийских курений снова стали кружить ей голову. В Риме был обычай возлежать на пирах, но дома она обычно занимала место между Помпонией и маленьким Авлом, теперь же рядом с ней был Виниций, молодой, сильный, влюбленный, пылкий, и она, чувствуя жар, исходивший от него, чувствовала одновременно и стыд и наслаждение. Ею овладело сладостное изнеможение, какое-то забытье, ее клонило ко сну.
Но близость стала действовать и на Виниция. Лицо его побледнело, ноздри раздувались, как у арабского коня. Сердце стучало под его алой туникой, дыхание стало быстрым, губы шептали нежные признания. И он впервые был так близок к ней. Мысли его путались; в крови он чувствовал огонь, который напрасно пытался залить вином. Не вино его пьянило, а ее чудесное лицо, ее нежные руки, ее девичий стан, закутанный в белоснежный пеплум. Он взял ее за руку, как тогда, в доме Авла, и, привлекая к себе, стал шептать дрожащими губами:
– Я люблю тебя, божественная Каллина!
– Пусти, Марк, – прошептала она.
А он говорил с затуманенными глазами:
– Божественная! Полюби меня!..
В эту минуту послышался голос Актеи, которая возлежала около Лигии с другой стороны:
– Это было бы плохо, – сказала Актея. Подумав немного, она продолжала: – Но возможно, что Петроний проболтался за ужином, что видел у Авла заложницу лигийцев, и Нерон, ревнивый к своей власти, потребовал тебя лишь потому, что заложницы принадлежат цезарю. Он к тому же не любит Авла и Помпонию… Я не думаю, чтобы Петроний, желая отнять тебя у Авла, прибег к такому способу… Не знаю, лучше ли Петроний тех людей, которые окружают цезаря, но он во всяком случае не похож на них… Может быть, кроме него ты знаешь кого-нибудь, кто мог бы просить за тебя? Не видел ли тебя у Авла близкий к цезарю человек?
– У нас бывали Веспасиан и Тит…
– Цезарь не любит их.
– Сенека…
– Достаточно Сенеке посоветовать что-нибудь, и цезарь поступит как раз наоборот.
Бледное лицо Лигии слегка разрумянилось.
– И Виниций…
– Я не знаю его.
– Племянник Петрония, вернувшийся недавно из Армении…
– Ты думаешь, что цезарь рад его видеть?
– Виниция все любят.
– И он мог бы просить за тебя?
– Да.
Актея улыбнулась и сказала:
– Ты, вероятно, увидишь его на пиру. Ты должна присутствовать на нем непременно. Только такой ребенок, как ты, мог подумать иначе. Если хочешь вернуться в дом Авла, ищи случая попросить Петрония и Виниция, чтобы они своим влиянием выхлопотали тебе право возвращения. Если бы они были здесь сейчас, оба сказали бы тебе то же, что и я: безумие и гибель оказывать неповиновение. Правда, цезарь мог бы не заметить твоего отсутствия, но если бы он заметил и подумал, что ты противишься его воле, то для тебя не было бы спасения. Иди, Лигия… Слышишь шум в доме? Солнце садится, и гости скоро начнут собираться.
– Ты права, Актея, – ответила Лигия, – я последую твоему совету.
Сколько в этом решении было желания увидеться с Виницием и Петронием, сколько женского любопытства хоть раз в жизни увидеть пир, на нем самого цезаря, двор, знаменитую Поппею и других красавиц и всю неслыханную пышность, о которой рассказывали в Риме чудеса, – сама Лигия, вероятно, не сумела бы ясно отдать себе отчета. Но Актея была права, и девушка понимала это. Идти на пир было необходимо, а раз необходимость и рассудок поддерживали тайное искушение, Лигия перестала колебаться.
Актея отвела Лигию в свою комнату, чтобы одеть ее, и хотя в доме цезаря не было недостатка в рабынях и у Актеи их было достаточное число для личных услуг, она из сочувствия к девушке, невинность и красота которой глубоко растрогали ее, решила лично заняться ее туалетом. И тотчас оказалось, что в молодой дочери Греции, несмотря на ее печаль и внимательное чтение писем Павла из Тарса, много еще осталось старой эллинской души, для которой красота тела говорит сильнее, чем все другое на свете. Раздев Лигию и увидев формы ее тела, словно вылитые из жемчуга и роз, полные и стройные, она не могла удержаться от крика удивления и, отступив на несколько шагов, с восторгом смотрела на эту несравненную весеннюю красоту.
– Лигия! – воскликнула она наконец. – Ты в сто раз красивее Поппеи!
Девушка, воспитанная в строгом доме Помпонии, где скромность была обязательна даже в присутствии одних женщин, стояла чудесная, как сновидение, гармоничная, как произведение Праксителя, как воплощенная песнь, но смущенная, розовая, со сжатыми коленями, с руками на груди, с опущенными вниз глазами. Потом, вдруг подняв к голове руки и вынув шпильки, поддерживающие волосы, она тряхнула головой и мгновенно покрылась ими, как плащом.
Актея подошла к ней ближе и сказала:
– Какие волосы!.. Я не осыплю их золотой пудрой, они сами отливают золотом… Разве чуть-чуть, чтобы заставить их сиять, как отблеск солнца… Чудесный ваш край лигийский, где родятся такие девушки.
– Я не помню родины, – ответила Лигия. – Урс говорит, что у нас только леса, леса и леса…
– А в лесах цветут такие цветы, – сказала Актея, макая руки в сосуд с вербеной и увлажняя ими волосы Лигии.
Потом она стала слегка натирать тело девушки благовонными аравийскими мазями, после чего одела ее в золотистую тунику без рукавов, на которую потом Лигия должна была надеть белоснежный пеплум. Но раньше нужно было причесать волосы, поэтому она закутала девушку широким покрывалом и, усадив в кресло, поручила ее рабыням, чтобы самой издали наблюдать за причесыванием. Две рабыни тем временем надевали на ноги Лигии белые, шитые пурпуром сандалии, переплетая накрест золотые тесемки. Когда прическа была закончена, на Лигию надели пеплум, легкие складки которого были старательно уложены, после чего Актея застегнула жемчужное ожерелье на шее девушки и слегка попудрила ей волосы. Затем она велела одевать себя, не спуская все время восхищенных глаз с Лигии.
Она скоро была готова, и когда у главных ворот стали появляться первые лектики[42 - Лектика – носилки.], они вошли в боковой портик, откуда виден был главный вход, внутренние галереи и двор, окруженный колоннадой из нумидийского мрамора.
Все больше и больше гостей проходило в высокие ворота, над которыми великолепная квадрига Лизия, казалось, уносила в воздух Аполлона и Диану. Лигия была изумлена пышностью, о которой не мог ей дать понятия скромный дом Авла. Был закат, и последние лучи солнца падали на желтый нумидийский мрамор колонн, отливавший золотом и в то же время отражавший розовый блеск зари. Под колоннами возле белых статуй Данаид, богов и героев проходили толпы народа, мужчин и женщин, похожих на оживленные статуи, закутанных в тоги, пеплумы и столы, мягкими складками спадающие книзу, на которых также догорал блеск заходящего солнца. Огромный Геркулес, с головой, освещенной солнцем, и грудью, погруженной в тень, падавшую от колонны, смотрел сверху на эту толпу. Актея показывала Лигии сенаторов в тогах с широкими полосами, цветных туниках и с полумесяцем на обуви; военачальников, знаменитых художников, знатных женщин, одетых по-римски, по-гречески или же в фантастические восточные наряды, женщин с прическами в виде башни, пирамиды или с низкими, наподобие причесок мраморных богинь, увенчанных цветами. Многих мужчин и женщин называла Актея по имени, рассказывая о них краткие и подчас ужасные истории, от которых Лигия испытывала страх и удивление. Это был для нее странный мир, красотой которого упивался ее взор, но противоречий которого не мог понять ее девичий разум. В вечерней заре, в лесе недвижных колонн, уходивших вдаль, в людях, похожих на статуи, – во всем этом был некий великий покой; казалось, что здесь должны жить какие-то чуждые забот, спокойные и счастливые полубоги, между тем как тихий голос Актеи раскрывал одну за другой страшные тайны и этого дворца, и этих людей. Вот там издали виден портик, на колоннах которого и на полу еще не стерлись пятна крови, которой обагрил белоснежный мрамор Калигула, павший от ножа Кассия Хереи; там была убита его жена; там был разбит о камни ребенок; а под тем крылом скрыто подземелье, в котором грыз себе руки заморенный голодом младший Друз; там отравили старшего Друза, там извивался в судорогах Гемелл, там умирал Клавдий, там Германик, – всюду эти стены слышали стоны и хрипенье умирающих; а те люди, которые теперь спешат на пир, в тогах, разноцветных туниках, украшенные цветами и драгоценностями, завтра, может быть, будут осуждены на смерть. Не на одном лице под улыбкой таится страх, волнение, неуверенность в завтрашнем дне; ненависть, жадность, зависть таятся на сердце этих с виду беззаботных, увенчанных полубогов. Взволнованная мысль Лигии не успевала следить за словами Актеи, и в то время, как этот чудесный мир привлекал с все возраставшей силой взоры, в душе ее вдруг возникла несказанная, безмерная тоска по любимой Помпонии и спокойном доме Авла, где царила любовь, а не преступление.
Прибывали все новые волны гостей. У ворот раздавались крики и говор клиентов, провожавших своих покровителей. Двор и колоннады наполнились множеством рабов и рабынь цезаря, детей и преторианцев, державших караул во дворце. Среди белых или бронзовых лиц иногда мелькало негритянское черное, в шлеме, украшенном перьями, и с золотыми серьгами в ушах. Несли лютни, кифары, корзины цветов, несмотря на позднюю осень, светильники золотые, серебряные и медные. Громкие разговоры смешивались с плеском водометов, розовые от вечерних блесков струи которых, падая сверху на розовый мрамор, разбивались с шумом, похожим на рыдание.
Актея перестала рассказывать, но Лигия не отрываясь смотрела на толпу, словно искала кого-то. И вдруг лицо ее вспыхнуло. Из-за колонн показались Виниций и Петроний; они шли к большому триклинию, прекрасные, важные, в своих тогах похожие на беломраморных богов. Когда Лигия увидела среди чужих людей эти два знакомых дружеских лица, особенно когда увидела Виниция, она сразу почувствовала в душе большое облегчение. Она была неодинока. Безмерная тоска по дому, Помпонии и Авлу, волновавшая минуту назад, перестала мучить ее. Искушение увидеть Виниция и говорить с ним заглушило иные голоса. Напрасно она вспоминала все дурное, что слышала о доме цезаря, и рассказ Актеи, и слова Помпонии, – несмотря на эти слова и рассказы, она вдруг почувствовала, что не только должна быть на пиру, но и хочет присутствовать на нем. При мысли, что через минуту услышит милый, любимый голос, который твердил ей о любви и счастье, достойном богов, и который до сих пор звучит в ее душе, как песня, Лигию охватила радость.
И вдруг она испугалась этой своей радости. Ей показалось, что она изменила чистому учению, в котором была воспитана, изменила Помпонии и самой себе. Далеко не одно и то же – идти на пир по принуждению или радоваться необходимости присутствовать на нем. Лигия почувствовала себя виноватой, недостойной, погибшей. Ее охватило отчаяние, она готова была разрыдаться. Если бы она была одна, она опустилась бы на колени и, ударяя себя в грудь, покаянно шептала бы: «Помилуй меня, грешную, помилуй!» Но Актея взяла ее за руку и повела внутренними покоями в триклиниум, где должен был состояться пир. У Лигии потемнело в глазах от волнения и душевной борьбы, шумело в ушах, захватывало дыхание, сжималось сердце. Словно во сне она увидела тысячи светильников на стенах, столах, услышала крик, которым гости приветствовали цезаря, сквозь туман увидела его самого. Крик оглушил ее, блеск ослепил, от ароматов кружилась голова, и она потеряла остаток самообладания. Актея, поместив ее у стола, возлегла с ней рядом.
Через несколько минут низкий знакомый голос прозвучал около нее с другой стороны:
– Привет тебе, прекраснейшая из земных девушек и звезд небесных! Здравствуй, божественная Каллина!
Лигия, придя в себя, оглянулась: рядом с ней возлежал Виниций.
Он был без тоги: ради удобства обычай требовал, чтобы тогу снимали во время пира. На нем была ярко-красная туника без рукавов, расшитая серебром. Обнаженные руки по восточному обычаю украшены были двумя широкими золотыми запястьями выше локтей; а ниже они были гладкие, очищенные от растительности, сильные, мускулистые, как у настоящего воина, словно нарочно созданные для меча и щита. Голова была увенчана розами. С бровями, тесно сходившимися на переносице, прекрасными глазами и смуглым лицом, Марк был воплощением молодости и силы, он показался Лигии до такой степени красивым, что она, хотя ее первое волнение и прошло, едва смогла ответить:
– И мой привет тебе, Марк!
Он говорил:
– Счастливы глаза мои, увидевшие тебя; счастливы уши, которые слышат голос твой, более милый для меня, чем звуки флейт и кифары. Если бы мне дано было выбрать, кто будет возлежать со мной рядом на этом пиру, ты или Венера, я выбрал бы тебя, божественная Лигия!
И он жадно смотрел на нее, словно хотел насытиться ее видом, и сжигал ее своим взором. Его глаза скользили по ее лицу, шее, обнаженным рукам, он любовался прекрасными формами, ласкал ее своим взглядом, и кроме страсти светилось в нем также счастье, и чистая любовь, и восторг без границ.
– Я знал, что мы встретимся в доме цезаря, – говорил он, – но при виде тебя душа моя испытала такую радость, словно на мою долю выпало нечаянное счастье.
Лигия, придя в себя и чувствуя, что в этой чужой толпе, в этом доме Виниций – единственный близкий ей человек, стала говорить с ним и расспрашивать его обо всем, что было ей непонятно и что вселяло в нее страх. Откуда он узнал, что встретит ее в доме цезаря, и почему она здесь? Зачем цезарь разлучил ее с Помпонией? Лигии страшно здесь, и она хочет вернуться к матери. Она умерла бы от тоски и страха, если бы не надежда, что Петроний и он попросят за нее цезаря.
Виниций сказал, что обо всем он узнал от Авла. Почему она здесь, он не знает. Цезарь никому не дает отчета в своих делах и повелениях. Но пусть она не боится. Ведь он, Виниций, около нее и останется с ней. Он предпочел бы ослепнуть, чем не видеть ее, потерять жизнь, чем покинуть Лигию. Она – его душа, и он будет беречь ее, как душу. Он поставит ей в своем доме алтарь, как своему божеству, на котором будет приносить жертвы – мирру и алоэ, а весной – молодой цвет яблони… Если она боится оставаться в доме цезаря, то он обещает ей, что она здесь не останется.
И хотя он говорил двусмысленно и порою лгал, в голосе звучала искренность, потому что искренни были его чувства. Его охватила жалость к ней, и слова ее глубоко проникали в его душу, когда она стала благодарить его, говоря, что Помпония полюбит его за добрые чувства, а сама она будет всю жизнь благодарна ему; он едва совладал с своим волнением, и ему казалось, что никогда в жизни он не сможет отказать ей в просьбе. Сердце его стало смягчаться. Красота пленила его душу, он жаждал ее и в то же время чувствовал, что Лигия дорога ему и что он действительно способен молиться на нее, как на божество; он чувствовал неодолимую потребность говорить о ее красоте и о своей любви, и, так как шум в триклиниуме значительно усилился, он подвинулся к ней ближе и стал нашептывать ласковые, идущие из глубины души признания, звучные, как музыка, и пьянящие, как вино.
И он опьянял Лигию. Среди чужих людей, которые окружали ее, он казался ей близким, милым, на него можно было положиться, он был предан ей всей душой. Он успокоил ее, обещал вырвать из дома цезаря, обещал не покидать и всегда служить ей. Кроме того, раньше он говорил с ней в доме Авла лишь вообще о любви и о том счастье, какое она может дать, а теперь он определенно признался, что любит ее, что она ему милей и дороже всех женщин. Лигия впервые слышала такие слова из уст мужчины, и по мере того как слушала их, ей казалось, что в душе ее что-то просыпается, ее охватывает какое-то счастье, в котором безмерная радость смешана со странной тревогой. Ее щеки горели, сердце стучало, губы полуоткрылись, словно от удивления. Ей было страшно слушать такие вещи, и в то же время она боялась упустить хоть одно слово. Иногда она опускала глаза и снова поднимала на Виниция лучистый взор, испуганный и в то же время вопрошающий, словно хотела сказать ему: «Говори, говори еще!» Говор, музыка, благоухание цветов и аравийских курений снова стали кружить ей голову. В Риме был обычай возлежать на пирах, но дома она обычно занимала место между Помпонией и маленьким Авлом, теперь же рядом с ней был Виниций, молодой, сильный, влюбленный, пылкий, и она, чувствуя жар, исходивший от него, чувствовала одновременно и стыд и наслаждение. Ею овладело сладостное изнеможение, какое-то забытье, ее клонило ко сну.
Но близость стала действовать и на Виниция. Лицо его побледнело, ноздри раздувались, как у арабского коня. Сердце стучало под его алой туникой, дыхание стало быстрым, губы шептали нежные признания. И он впервые был так близок к ней. Мысли его путались; в крови он чувствовал огонь, который напрасно пытался залить вином. Не вино его пьянило, а ее чудесное лицо, ее нежные руки, ее девичий стан, закутанный в белоснежный пеплум. Он взял ее за руку, как тогда, в доме Авла, и, привлекая к себе, стал шептать дрожащими губами:
– Я люблю тебя, божественная Каллина!
– Пусти, Марк, – прошептала она.
А он говорил с затуманенными глазами:
– Божественная! Полюби меня!..
В эту минуту послышался голос Актеи, которая возлежала около Лигии с другой стороны: