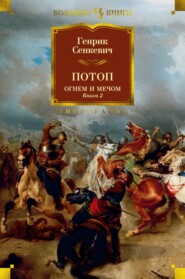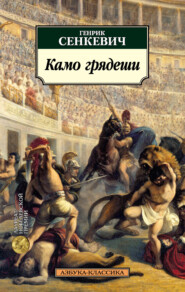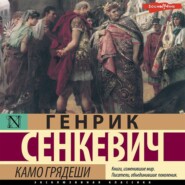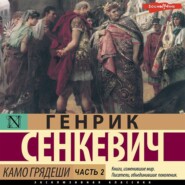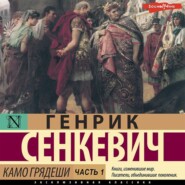По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Камо грядеши
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Значит, ты не знаешь Помпонии Грецины. Впрочем, оба они привязались к ней, как к собственной дочери.
– Помпонию я знаю. Подлинный кипарис. Если бы не была женой Авла, была бы великолепной похоронной плакальщицей. После смерти Юлии не снимает черных одежд, вообще у нее такой вид, словно при жизни она ходит по полям, покрытым асфоделями[14 - Т.е. в царстве мертвых.]. Кроме того, она «imivira» – женщина, имевшая только одного мужа, – и между нашими матронами, побывавшими в браке раз пять, может сойти за феникса. Кстати, слышал ли ты, говорят, феникс в самом деле возродился где-то в Верхнем Египте, что случается не чаще как один раз в пятьсот лет?
– Петроний, Петроний! Мы поговорим о фениксе когда-нибудь в другой раз.
– Что мне сказать тебе, мой Марк? Я знаю Авла Плавтия, который, хотя и бранит мой образ жизни, все же питает ко мне некую слабость, может быть, даже уважает больше, чем других, потому что знает, что я не способен быть доносчиком, подобно Домицию Афру, Тигеллину и всей шайке друзей Агенобарба. Не выдавая себя за стоика, я, однако, не раз морщился от таких выходок Меднобородого, на которые Сенека и Бурр смотрели сквозь пальцы. Если ты думаешь, что я могу быть тебе чем-нибудь полезен у Авла, – я весь к твоим услугам.
– Думаю, что можешь. Ты имеешь влияние на него, твой ум необыкновенно остер. Если бы ты вник в положение, поговорил с Плавтием…
– У тебя преувеличенное мнение о моем влиянии и уме, но, если дело лишь за этим, я охотно поговорю с ним, как только они переедут в город.
– Они переехали два дня тому назад.
– В таком случае пойдем в триклиний[15 - Помещение, в котором находится обеденный стол с ложами.], где нас ждет завтрак, а потом велим себя отнести к Плавтию.
– Ты всегда был мне мил, – с живостью заговорил Виниций, – но теперь я велю поставить твое изображение среди моих домашних лар[16 - Лары – боги – хранители домашнего очага.], вот такое прекрасное, как это, и буду приносить ему жертвы.
И с этими словами он повернулся к стене, у которой стояли статуи, и показал рукой на изображение Петрония в виде Гермеса с посохом в руке. Потом он прибавил:
– Клянусь светом Гелиоса, что божественный Парис был похож на тебя, поэтому нечего удивляться Елене.
И в этом возгласе слышалась неподдельная искренность, потому что Петроний хотя был старше и менее мускулист, но казался красивее Виниция. Женщины в Риме удивлялись не только его гибкому уму и вкусу, что давало Петронию право называться «arbiter elegantiarum», но также и его телу. И этот удивленный восторг отразился на лицах гречанок, которые приводили в порядок складки его тоги; одна из них, по имени Евника, была тайно влюблена в него и смотрела на него с обожанием и любовью.
Но он не обратил на это внимания и с улыбкой стал цитировать в ответ Виницию слова Сенеки о женщинах:
«Animal impudens»[17 - Бесстыдное животное (лат.).], – и т.?д.
Потом, обняв его, он повел Виниция в триклиний.
В бане гречанки, фригийки и негритянки стали убирать сосуды с благовониями. Но в ту же минуту из-за занавеса показались головы банщиков и раздалось тихое: «Псс!..» На этот призыв одна из гречанок, фригийки и обе негритянки тотчас исчезли за занавесом. В банях была минута полной свободы и разврата, чему не мешал надсмотрщик, и сам не раз принимавший участие в подобных похождениях. Догадывался об этом и Петроний, но, как человек великодушный и не любивший прибегать к наказаниям, смотрел на все сквозь пальцы.
В комнате осталась одна Евника. Некоторое время она прислушивалась к удалявшимся голосам и смеху, потом, подняв инкрустированную янтарем и слоновою костью скамью, на которой только что сидел Петроний, осторожно поставила ее перед его статуей.
Комната была залита солнечным светом, переливавшимся на многоцветном мраморе, которым были выложены стены.
Евника встала на скамью и вдруг закинула руки вокруг шеи статуи, отбросив назад золотые свои волосы, – прижимаясь розовым телом к белому мрамору, она с волнением прижала свои губы к каменным губам Петрония.
II
После трапезы, которая называлась завтраком и за которую два друга сели тогда, когда простые смертные давно уже пообедали, Петроний предложил немного вздремнуть. По его мнению, рано было идти в гости. Есть люди, которые навещают своих знакомых тотчас после восхода солнца, считая это старым римским обычаем. Но он, Петроний, считает это варварством. Наиболее удобно послеобеденное время, когда солнце перейдет в сторону храма Юпитера Капитолийского и станет сбоку взирать на Форум. Осенью бывает еще очень жарко, и люди охотно спят после еды. Приятно послушать журчанье фонтана в атриуме[18 - Атриум – внутренний световой двор, откуда имелись выходы во все остальные помещения.] и после обязательной тысячи шагов подремать в багряной тени, под наполовину затянутым пурпурным велариумом[19 - Велариум – тент или навес от солнца.].
Виниций признал правоту слов Петрония, и они стали прохаживаться, ведя легкий разговор о том, что слышно нового на Палатине и в городе, и немного философствуя о жизни. После этого Петроний отправился в спальню, но спал недолго. Через полчаса он вышел и, велев принести вербену, стал нюхать ее и натирать себе руки и виски.
– Не поверишь, – сказал он, – как это освежает… Теперь я готов.
Лектика – носилки – давно ждала их. Они сели и приказали отнести себя на улицу Патрициев в дом Авла Плавтия. Инсула Петрония лежала на южном склоне Палатина, поэтому кратчайшая дорога проходила ниже Форума, но так как Петроний хотел побывать у ювелира Идомена, то приказал нести себя через Форум, в сторону Злодейской улицы, где было множество всякого рода таверн.
Огромные негры подняли лектику и понесли ее, впереди расчищали дорогу рабы. Петроний время от времени молча подносил к лицу свои руки, пахнущие вербеной, и, казалось, о чем-то глубоко размышлял. Потом он сказал:
– Мне приходит в голову, что если твоя лесная богиня не невольница, то она могла бы покинуть дом Плавтия и перейти в твой. Ты окружил бы ее любовью и богатством, как я свою божественную Хризотемиду, которая, говоря между нами, надоела мне так же, как и я ей.
Марк покачал головой.
– Нет? – спросил Петроний. – В худшем случае дело дошло бы до цезаря, и можешь быть уверен, что наш Меднобородый, хотя бы вследствие моего влияния, был бы на твоей стороне.
– Ты не знаешь Лигии! – ответил Виниций.
– Тогда позволь мне спросить. Знаешь ли ты ее? Говорил ли ты с ней? Признался ли в своей любви?
– Я увидел ее впервые у фонтана, потом встречался с ней два раза. Вспомни, что во время моего пребывания в доме Авла я жил в боковом помещении для гостей и, страдая от боли в руке, не мог принимать участия в общей трапезе. И лишь накануне своего отъезда я встретил Лигию за ужином – и не мог сказать ей ни слова. Пришлось слушать Авла, который рассказывал о своих победах в Британии, потом об упадке мелких хозяйств в Италии, против которого боролся еще Лициний Столон. Вообще, я не знаю, может ли Авл говорить о чем-нибудь другом, и ты не думай, что мы сумеем избежать этого, разве только ты захочешь слушать его жалобы на нынешнее безвременье и упадок нравов. У них фазаны в птичнике, но они их не едят, полагая, что каждый съеденный фазан приближает нас к концу римского могущества. Во второй раз я встретил ее около цистерны в саду с тростником в руке, который она погружала в воду и брызгала растущие вокруг ирисы. Посмотри на мои колени. Клянусь щитом Геракла, что они не дрожали, когда на наши манипулы[20 - Манипул – боевое подразделение римской армии.] шли с воем тучи парфян, но они дрожали около этой цистерны. Смущенный, как мальчик, который носит еще буллу[21 - Булла – шейный амулет в виде шарика или кружка.] на шее, я одними глазами молил о ласке, не будучи в состоянии вымолвить ни слова.
Петроний посмотрел на него с завистью.
– Счастливый! Пусть мир и жизнь будут злыми, одно в них останется вечным благом – молодость!
Потом он спросил:
– Ты заговорил с ней?
– Да. Придя немного в себя, я сказал, что возвращаюсь из Азии, что в дороге повредил себе руку и очень страдал, но в ту минуту, когда мне приходится покинуть этот гостеприимный кров, я вижу, что страдания здесь стоят гораздо больше, чем наслаждение в другом месте, болезнь лучше, чем где-либо здоровье. Она слушала меня также смущенная, с опущенной головой, чертя тростником что-то на песке. Потом она подняла глаза, посмотрела еще раз на знаки на песке, потом снова на меня, словно желая о чем-то спросить, и вдруг убежала, как дриада от глуповатого фавна.
– У нее, должно быть, красивые глаза.
– Как море, и я утонул в них, как в море. Поверь, что Архипелаг[22 - Архипелаг – Эгейское море.] не такой голубой. Потом прибежал маленький Плавтий и стал меня о чем-то расспрашивать. Но я ничего не понимал, ничего не слышал.
– О Афина! – воскликнул Петроний. – Сними этому юноше повязку с глаз, которую надел ему Эрот, потому что он рискует разбить себе голову о колонну храма Венеры.
Потом он обратился к Виницию:
– Ты – весенняя почка на дереве жизни, ты – первый зеленый побег виноградной лозы! Тебя следовало бы вместо Плавтиев отнести в дом Гелоция, где обучают неопытных в жизни мальчиков.
– Что ты, собственно, хочешь сказать?
– Что она чертила на песке? Не имя ли Амура, не сердце ли, пронзенное его стрелой? И разве нельзя по этому узнать, что сатиры уже нашептали этой нимфе на ухо разные тайны жизни? Как можно было не рассмотреть этих знаков.
– Я надел тогу раньше, чем ты думаешь, – ответил Виниций, – и прежде чем прибежал маленький Авл, я внимательно рассмотрел знаки. Я ведь знаю, что и в Греции и в Риме девушки часто чертят на песке признания, которых не в силах произнести уста… И угадай, что она начертила?
– Если не то, что я сказал, – не угадаю.
– Рыбу.
– Как ты говоришь?
– Говорю: рыбу! Значит ли это, что в жилах ее пока течет холодная кровь, – не знаю! Но ты, назвавший меня весенней почкой на древе жизни, ты, наверное, лучше меня разгадаешь этот знак.
– Мой милый, об этом спроси лучше Плиния. Он понимает толк в рыбах. Если бы жив был старый Апиций, он также, вероятно, сумел бы рассказать тебе это, потому что в продолжение своей жизни съел столько рыбы, сколько не сможет вместить в себя Неаполитанский залив.
Дальнейшая беседа была прервана, потому что их вынесли на людную улицу, где мешал громкий говор прохожих. Через Аполлонову улицу они свернули на Форум, на котором в ясные дни перед закатом солнца сновали толпы праздного народа, разгуливали у колонн, передавали друг другу новости и сплетни, глазели на знаменитых людей, которых проносили в лектиках, наконец, заглядывали в ювелирные и книжные лавки, толпились около менял – всего этого было очень много в части рынка, расположенного против Капитолия. Половина Форума была в тени, тогда как колонны и крыши лежащих выше храмов сияли в солнце и лазури. Стоявшие ниже колонны отбрасывали длинные тени на мраморные плиты, повсюду их было так много, что взор терялся среди них, как в лесу. Казалось, что зданиям и колоннам здесь очень тесно. Громоздились одно над другим, бежали вправо и влево, вздымались кверху, прижимались к крепостной стене или одно к другому; колонны были похожи на большие и малые, толстые и тонкие, золотистые и белые стволы деревьев, расцветших под архитравами цветами аканта, скрученных в ионийские рога или увенчанных простым дорийским квадратом. Над этим лесом разноцветные триглифы, из тимпанов[23 - Тимпан – треугольное поле фронтона (верхней части торцевого фасада), украшенное рельефами и скульптурными изображениями.] виднелись изваянные изображения богов, а на крышах крылатые золотые квадриги, казалось, готовы были улететь в воздух, в эту лазурь, которая спокойно распростерлась над тесным городом храмов. По середине рынка и по краям струился поток людей: римляне гуляли под сводами базилики Юлия Цезаря, иные сидели на ступенях храма Кастора и Поллукса, иные ходили вокруг небольшого храма Весты, похожие на этом огромном мраморном фоне на разноцветных бабочек или жуков. Сверху, по ступеням от храма, посвященного «Jovi Optimo Maximo»[24 - Юпитеру Наилучшему Величайшему (лат.).], наплывали новые толпы; около ростр слушали каких-то ораторов; повсюду слышались крики продавцов фруктов, вина или воды, подслащенной фиговым соком; сновали лекаря, предлагавшие чудодейственные снадобья, гадальщики, толкователи снов. Среди громких разговоров и криков слышались порой звуки систра, греческой флейты или египетского самбука[25 - Самбук – античный струнный щипковый инструмент, разновидность арфы.]. Больные, богомольцы или люди, впавшие в несчастье, несли жертвы в храм. Среди людей виднелись на каменных плитах жадные, похожие на подвижные синие пятна, стаи голубей, то взлетавшие с шумом вверх, то снова опускавшиеся на свободное место. Иногда толпа расступалась перед лектикой, в которой виднелось красивое женское лицо или патрицианская голова сенатора. Разноязычная толпа громко называла их имена, сопровождая их прозвищами, насмешками или похвалами. Между беспорядочными толпами народа иногда проходили сомкнутым строем солдаты или стража, наблюдающая за уличным порядком. Греческий язык слышался повсюду так же часто, как и латинский.
– Помпонию я знаю. Подлинный кипарис. Если бы не была женой Авла, была бы великолепной похоронной плакальщицей. После смерти Юлии не снимает черных одежд, вообще у нее такой вид, словно при жизни она ходит по полям, покрытым асфоделями[14 - Т.е. в царстве мертвых.]. Кроме того, она «imivira» – женщина, имевшая только одного мужа, – и между нашими матронами, побывавшими в браке раз пять, может сойти за феникса. Кстати, слышал ли ты, говорят, феникс в самом деле возродился где-то в Верхнем Египте, что случается не чаще как один раз в пятьсот лет?
– Петроний, Петроний! Мы поговорим о фениксе когда-нибудь в другой раз.
– Что мне сказать тебе, мой Марк? Я знаю Авла Плавтия, который, хотя и бранит мой образ жизни, все же питает ко мне некую слабость, может быть, даже уважает больше, чем других, потому что знает, что я не способен быть доносчиком, подобно Домицию Афру, Тигеллину и всей шайке друзей Агенобарба. Не выдавая себя за стоика, я, однако, не раз морщился от таких выходок Меднобородого, на которые Сенека и Бурр смотрели сквозь пальцы. Если ты думаешь, что я могу быть тебе чем-нибудь полезен у Авла, – я весь к твоим услугам.
– Думаю, что можешь. Ты имеешь влияние на него, твой ум необыкновенно остер. Если бы ты вник в положение, поговорил с Плавтием…
– У тебя преувеличенное мнение о моем влиянии и уме, но, если дело лишь за этим, я охотно поговорю с ним, как только они переедут в город.
– Они переехали два дня тому назад.
– В таком случае пойдем в триклиний[15 - Помещение, в котором находится обеденный стол с ложами.], где нас ждет завтрак, а потом велим себя отнести к Плавтию.
– Ты всегда был мне мил, – с живостью заговорил Виниций, – но теперь я велю поставить твое изображение среди моих домашних лар[16 - Лары – боги – хранители домашнего очага.], вот такое прекрасное, как это, и буду приносить ему жертвы.
И с этими словами он повернулся к стене, у которой стояли статуи, и показал рукой на изображение Петрония в виде Гермеса с посохом в руке. Потом он прибавил:
– Клянусь светом Гелиоса, что божественный Парис был похож на тебя, поэтому нечего удивляться Елене.
И в этом возгласе слышалась неподдельная искренность, потому что Петроний хотя был старше и менее мускулист, но казался красивее Виниция. Женщины в Риме удивлялись не только его гибкому уму и вкусу, что давало Петронию право называться «arbiter elegantiarum», но также и его телу. И этот удивленный восторг отразился на лицах гречанок, которые приводили в порядок складки его тоги; одна из них, по имени Евника, была тайно влюблена в него и смотрела на него с обожанием и любовью.
Но он не обратил на это внимания и с улыбкой стал цитировать в ответ Виницию слова Сенеки о женщинах:
«Animal impudens»[17 - Бесстыдное животное (лат.).], – и т.?д.
Потом, обняв его, он повел Виниция в триклиний.
В бане гречанки, фригийки и негритянки стали убирать сосуды с благовониями. Но в ту же минуту из-за занавеса показались головы банщиков и раздалось тихое: «Псс!..» На этот призыв одна из гречанок, фригийки и обе негритянки тотчас исчезли за занавесом. В банях была минута полной свободы и разврата, чему не мешал надсмотрщик, и сам не раз принимавший участие в подобных похождениях. Догадывался об этом и Петроний, но, как человек великодушный и не любивший прибегать к наказаниям, смотрел на все сквозь пальцы.
В комнате осталась одна Евника. Некоторое время она прислушивалась к удалявшимся голосам и смеху, потом, подняв инкрустированную янтарем и слоновою костью скамью, на которой только что сидел Петроний, осторожно поставила ее перед его статуей.
Комната была залита солнечным светом, переливавшимся на многоцветном мраморе, которым были выложены стены.
Евника встала на скамью и вдруг закинула руки вокруг шеи статуи, отбросив назад золотые свои волосы, – прижимаясь розовым телом к белому мрамору, она с волнением прижала свои губы к каменным губам Петрония.
II
После трапезы, которая называлась завтраком и за которую два друга сели тогда, когда простые смертные давно уже пообедали, Петроний предложил немного вздремнуть. По его мнению, рано было идти в гости. Есть люди, которые навещают своих знакомых тотчас после восхода солнца, считая это старым римским обычаем. Но он, Петроний, считает это варварством. Наиболее удобно послеобеденное время, когда солнце перейдет в сторону храма Юпитера Капитолийского и станет сбоку взирать на Форум. Осенью бывает еще очень жарко, и люди охотно спят после еды. Приятно послушать журчанье фонтана в атриуме[18 - Атриум – внутренний световой двор, откуда имелись выходы во все остальные помещения.] и после обязательной тысячи шагов подремать в багряной тени, под наполовину затянутым пурпурным велариумом[19 - Велариум – тент или навес от солнца.].
Виниций признал правоту слов Петрония, и они стали прохаживаться, ведя легкий разговор о том, что слышно нового на Палатине и в городе, и немного философствуя о жизни. После этого Петроний отправился в спальню, но спал недолго. Через полчаса он вышел и, велев принести вербену, стал нюхать ее и натирать себе руки и виски.
– Не поверишь, – сказал он, – как это освежает… Теперь я готов.
Лектика – носилки – давно ждала их. Они сели и приказали отнести себя на улицу Патрициев в дом Авла Плавтия. Инсула Петрония лежала на южном склоне Палатина, поэтому кратчайшая дорога проходила ниже Форума, но так как Петроний хотел побывать у ювелира Идомена, то приказал нести себя через Форум, в сторону Злодейской улицы, где было множество всякого рода таверн.
Огромные негры подняли лектику и понесли ее, впереди расчищали дорогу рабы. Петроний время от времени молча подносил к лицу свои руки, пахнущие вербеной, и, казалось, о чем-то глубоко размышлял. Потом он сказал:
– Мне приходит в голову, что если твоя лесная богиня не невольница, то она могла бы покинуть дом Плавтия и перейти в твой. Ты окружил бы ее любовью и богатством, как я свою божественную Хризотемиду, которая, говоря между нами, надоела мне так же, как и я ей.
Марк покачал головой.
– Нет? – спросил Петроний. – В худшем случае дело дошло бы до цезаря, и можешь быть уверен, что наш Меднобородый, хотя бы вследствие моего влияния, был бы на твоей стороне.
– Ты не знаешь Лигии! – ответил Виниций.
– Тогда позволь мне спросить. Знаешь ли ты ее? Говорил ли ты с ней? Признался ли в своей любви?
– Я увидел ее впервые у фонтана, потом встречался с ней два раза. Вспомни, что во время моего пребывания в доме Авла я жил в боковом помещении для гостей и, страдая от боли в руке, не мог принимать участия в общей трапезе. И лишь накануне своего отъезда я встретил Лигию за ужином – и не мог сказать ей ни слова. Пришлось слушать Авла, который рассказывал о своих победах в Британии, потом об упадке мелких хозяйств в Италии, против которого боролся еще Лициний Столон. Вообще, я не знаю, может ли Авл говорить о чем-нибудь другом, и ты не думай, что мы сумеем избежать этого, разве только ты захочешь слушать его жалобы на нынешнее безвременье и упадок нравов. У них фазаны в птичнике, но они их не едят, полагая, что каждый съеденный фазан приближает нас к концу римского могущества. Во второй раз я встретил ее около цистерны в саду с тростником в руке, который она погружала в воду и брызгала растущие вокруг ирисы. Посмотри на мои колени. Клянусь щитом Геракла, что они не дрожали, когда на наши манипулы[20 - Манипул – боевое подразделение римской армии.] шли с воем тучи парфян, но они дрожали около этой цистерны. Смущенный, как мальчик, который носит еще буллу[21 - Булла – шейный амулет в виде шарика или кружка.] на шее, я одними глазами молил о ласке, не будучи в состоянии вымолвить ни слова.
Петроний посмотрел на него с завистью.
– Счастливый! Пусть мир и жизнь будут злыми, одно в них останется вечным благом – молодость!
Потом он спросил:
– Ты заговорил с ней?
– Да. Придя немного в себя, я сказал, что возвращаюсь из Азии, что в дороге повредил себе руку и очень страдал, но в ту минуту, когда мне приходится покинуть этот гостеприимный кров, я вижу, что страдания здесь стоят гораздо больше, чем наслаждение в другом месте, болезнь лучше, чем где-либо здоровье. Она слушала меня также смущенная, с опущенной головой, чертя тростником что-то на песке. Потом она подняла глаза, посмотрела еще раз на знаки на песке, потом снова на меня, словно желая о чем-то спросить, и вдруг убежала, как дриада от глуповатого фавна.
– У нее, должно быть, красивые глаза.
– Как море, и я утонул в них, как в море. Поверь, что Архипелаг[22 - Архипелаг – Эгейское море.] не такой голубой. Потом прибежал маленький Плавтий и стал меня о чем-то расспрашивать. Но я ничего не понимал, ничего не слышал.
– О Афина! – воскликнул Петроний. – Сними этому юноше повязку с глаз, которую надел ему Эрот, потому что он рискует разбить себе голову о колонну храма Венеры.
Потом он обратился к Виницию:
– Ты – весенняя почка на дереве жизни, ты – первый зеленый побег виноградной лозы! Тебя следовало бы вместо Плавтиев отнести в дом Гелоция, где обучают неопытных в жизни мальчиков.
– Что ты, собственно, хочешь сказать?
– Что она чертила на песке? Не имя ли Амура, не сердце ли, пронзенное его стрелой? И разве нельзя по этому узнать, что сатиры уже нашептали этой нимфе на ухо разные тайны жизни? Как можно было не рассмотреть этих знаков.
– Я надел тогу раньше, чем ты думаешь, – ответил Виниций, – и прежде чем прибежал маленький Авл, я внимательно рассмотрел знаки. Я ведь знаю, что и в Греции и в Риме девушки часто чертят на песке признания, которых не в силах произнести уста… И угадай, что она начертила?
– Если не то, что я сказал, – не угадаю.
– Рыбу.
– Как ты говоришь?
– Говорю: рыбу! Значит ли это, что в жилах ее пока течет холодная кровь, – не знаю! Но ты, назвавший меня весенней почкой на древе жизни, ты, наверное, лучше меня разгадаешь этот знак.
– Мой милый, об этом спроси лучше Плиния. Он понимает толк в рыбах. Если бы жив был старый Апиций, он также, вероятно, сумел бы рассказать тебе это, потому что в продолжение своей жизни съел столько рыбы, сколько не сможет вместить в себя Неаполитанский залив.
Дальнейшая беседа была прервана, потому что их вынесли на людную улицу, где мешал громкий говор прохожих. Через Аполлонову улицу они свернули на Форум, на котором в ясные дни перед закатом солнца сновали толпы праздного народа, разгуливали у колонн, передавали друг другу новости и сплетни, глазели на знаменитых людей, которых проносили в лектиках, наконец, заглядывали в ювелирные и книжные лавки, толпились около менял – всего этого было очень много в части рынка, расположенного против Капитолия. Половина Форума была в тени, тогда как колонны и крыши лежащих выше храмов сияли в солнце и лазури. Стоявшие ниже колонны отбрасывали длинные тени на мраморные плиты, повсюду их было так много, что взор терялся среди них, как в лесу. Казалось, что зданиям и колоннам здесь очень тесно. Громоздились одно над другим, бежали вправо и влево, вздымались кверху, прижимались к крепостной стене или одно к другому; колонны были похожи на большие и малые, толстые и тонкие, золотистые и белые стволы деревьев, расцветших под архитравами цветами аканта, скрученных в ионийские рога или увенчанных простым дорийским квадратом. Над этим лесом разноцветные триглифы, из тимпанов[23 - Тимпан – треугольное поле фронтона (верхней части торцевого фасада), украшенное рельефами и скульптурными изображениями.] виднелись изваянные изображения богов, а на крышах крылатые золотые квадриги, казалось, готовы были улететь в воздух, в эту лазурь, которая спокойно распростерлась над тесным городом храмов. По середине рынка и по краям струился поток людей: римляне гуляли под сводами базилики Юлия Цезаря, иные сидели на ступенях храма Кастора и Поллукса, иные ходили вокруг небольшого храма Весты, похожие на этом огромном мраморном фоне на разноцветных бабочек или жуков. Сверху, по ступеням от храма, посвященного «Jovi Optimo Maximo»[24 - Юпитеру Наилучшему Величайшему (лат.).], наплывали новые толпы; около ростр слушали каких-то ораторов; повсюду слышались крики продавцов фруктов, вина или воды, подслащенной фиговым соком; сновали лекаря, предлагавшие чудодейственные снадобья, гадальщики, толкователи снов. Среди громких разговоров и криков слышались порой звуки систра, греческой флейты или египетского самбука[25 - Самбук – античный струнный щипковый инструмент, разновидность арфы.]. Больные, богомольцы или люди, впавшие в несчастье, несли жертвы в храм. Среди людей виднелись на каменных плитах жадные, похожие на подвижные синие пятна, стаи голубей, то взлетавшие с шумом вверх, то снова опускавшиеся на свободное место. Иногда толпа расступалась перед лектикой, в которой виднелось красивое женское лицо или патрицианская голова сенатора. Разноязычная толпа громко называла их имена, сопровождая их прозвищами, насмешками или похвалами. Между беспорядочными толпами народа иногда проходили сомкнутым строем солдаты или стража, наблюдающая за уличным порядком. Греческий язык слышался повсюду так же часто, как и латинский.