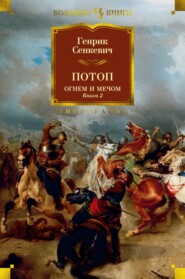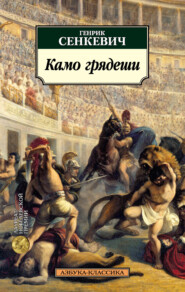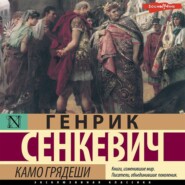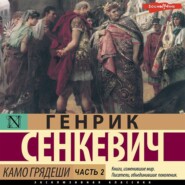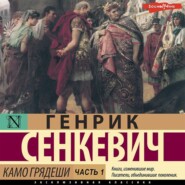По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Пан Володыёвский. Огнем и мечом. Книга 3
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Милости просим! – отвечала панна Езёрковская.
– Тогда спрошу смелее – о чем шла речь?
– О любви! – выпалила, не задумываясь, Бася.
Кетлинг сел рядом с Кшисей. Минуту они молчали, потому что Кшися, обычно умевшая поддержать беседу и светский тон, в присутствии этого рыцаря как-то странно робела. Наконец он сказал:
– Правда ли, разговор шел о столь возвышенном предмете?..
– Да! – тихим голосом отвечала панна Дрогоёвская.
– Я был бы счастлив услышать ваши мысли на сей счет, сударыня.
– Простите, сударь, мне и смелости, и ума на такой ответ не хватит. Тут, пожалуй, за вами первое слово.
– Кшися права! – вмешался Заглоба. – Говори же.
– Ну что же, спрашивайте, сударыня! – отвечал Кетлинг.
Он устремил взор к небесам, задумался, а потом, не дожидаясь вопросов, заговорил тихо, словно сам с собою беседуя:
– Любовь – тяжкое бремя: свободного она делает рабом. Как птица, пронзенная стрелой, падает к ногам охотника, так и человек, сраженный любовью, припадает к стопам любимой. Любовь – это увечье, человек как слепец: кроме нее, ничего вокруг не видит…
Любовь – это грусть, ведь когда еще мы проливаем столько слез и вздыхаем так тяжко? Кто полюбил, тому на ум нейдут ни наряды, ни танцы, ни охота, ни игра в кости; он часами сидит, обняв колени, и тоскует так тяжко, будто близкого друга лишился.
Любовь – это болезнь, ведь влюбленный бледен лицом, под глазами у него тени, в руках дрожь, он худ, помышляет о смерти или бродит как безумный, с нечесаными кудрями, сто раз на песке милое имя пишет, а когда имя сдует ветер, говорит: «Несчастье!..» – и заплакать готов…
Тут Кетлинг на мгновенье умолк. Кто-нибудь сказал бы, что он погрузился в раздумья. Кшися слушала его слова, как музыку, всей душой. Ее оттененные темным пушком губы были приоткрыты, а очи устремлены на рыцаря. Волосы лезли Баське на глаза, трудно было догадаться, о чем она думает; но она тоже молчала.
Вдруг пан Заглоба громко зевнул, засопев, вытянул ноги и сказал:
– Из такой любви шубы не сошьешь!..
– И все же, – продолжал снова рыцарь, – хотя любить – тяжкий труд, без любви еще тяжелее на свете; что тому роскошь, слава, богатства, драгоценности или благовония, кто любви лишился? Кто из нас не скажет своей любимой: «Ты мне дороже целого королевства, дороже, чем скипетр, здоровья и долголетья дороже…» Влюбленный рад был бы жизнь отдать за свою любовь, а стало быть, любовь дороже жизни.
Кетлинг умолк.
Барышни сидели рядышком, дивясь и его пылкости, и умелому красноречию, искусству столь чуждому польским воякам. Даже пан Заглоба, который под конец вроде бы задремал, вдруг встрепенулся и, моргая, стал поглядывать то на девиц, то на Кетлинга и наконец, проснувшись окончательно, громко спросил:
– О чем беседа?
– Хочу сказать вам спокойной ночи! – отвечала Бася.
– Ага! Вспомнил: рассуждали об амурах. И к чему пришли?
– Отделка богаче плаща оказалась.
– Еще бы! А меня сон одолел. А может, и жалобы эти: мечтанья, стенанья, воздыханья. А я возьми да и придумай для складу – засыпанье. И мое слово самое верное, потому что час поздний. Спокойной ночи честной компании, и не докучайте мне больше своими амурами… Боже, Боже! Кот мяучит, пока шкварки не съест, а потом знай сидит да облизывается… И я в свое время был вылитый Кетлинг, а влюблялся так страстно, что себя не помнил, баран мог бы меня под зад рогами поддать, я бы и не заметил. Но на склоне лет мне всего милее добрый сон, особливо если обходительный хозяин не только до постели проводит, но и напоит так, чтоб голова сама клонилась к подушке.
– Рад служить вашей милости! – сказал Кетлинг.
– Пойдем, пойдем. Глядите, вон как месяц-то высоко. К погоде: небо чистое, светло как днем! Кетлинг об амурах всю ночь готов рассуждать, но только не забывайте, козочки, он притомился с дороги.
– О нет, я ничуть не устал, в городе отдыхал два дня. Боюсь, панны слушать меня устали.
– Слушая вас, не заметишь, как ночь миновала, – сказала Кшися.
– Нет ночи там, где солнце светит, – отвечал Кетлинг.
Тут они расстались – ведь и правда давно наступила ночь. Опочивальня у девиц была одна, и они, как водится, подолгу болтали перед сном, но на сей раз Басе не удалось разговорить Кшисю, потому что насколько одной хотелось поговорить, настолько другая была молчалива, на все вопросы отвечала в полслова – да, нет. И каждый раз, когда Бася заводила речь о Кетлинге, смешно изображая его, Кшися нежно обнимала ее за шею, умоляя оставить насмешки.
– Он хозяин этого дома, – говорила Кшися, – он приютил нас… и тебя отметил и полюбил сразу…
– Неужто? – спрашивала Бася.
– Разве можно тебя не любить? – отвечала Кшися. – Все тебя любят, и я, я тоже…
С этими словами она приближала чудное лицо свое к Басиному лицу, терлась щекой об ее щеку, целовала ей очи.
Наконец они угомонились, но Кшися долго не могла уснуть. Какая-то тревога томила ее душу. Сердце начинало вдруг биться так часто, что она прижимала руки к нежным своим персям, лишь бы унять его биение. Стоило ей закрыть глаза – в каком-то чудном сне, прекрасное лицо склонялось над ней, и тихий голос шептал: «Ты мне дороже целого королевства, дороже, чем скипетр, здоровье и долголетье, жизни самой дороже!»
Глава XII
Спустя несколько дней пан Заглоба писал Скшетускому письмо, заключив его такими словами: «А ежели я до коронации к вам выбраться не сумею, не дивитесь. Не мое к вам пренебрежение тому причина, но суть в том, что дьявол не дремлет, а я не хочу, чтобы он пташку из моих рук спугнул и неведомо что подсунул. Худо будет, коли Михалу к его приезду не смогу я сказать: „Эта-де просватана, а гайдучок vacat[49 - Свободен (лат.).]“. На все воля Божья, но полагаю, что, узнав такую новость, Михал не станет упираться, и все без особых praeparationes[50 - Приготовления (лат.).] уладится, так что приедете к свадьбе. А пока, вспомнив Улисса, придется мне прибегнуть к кое-каким уловкам, вести интригу, хоть и нелегко мне это, ибо всю жизнь правда была мне хлебом насущным и ею я весь век бы кормился. Но ради Михала и любимого моего гайдучка я готов взять на душу грех, оба они – чистое золото. Засим обнимаю вас вместе с пострелятами и к сердцу прижимаю, Всевышнему и Его милости препоручая».
Покончив с писаниной, пан Заглоба присыпал лист песком, ударил по нему ладонью и, отставив подальше от глаз, перечел еще раз, после чего сложил, снял с пальца перстень с печаткой, послюнявил ее и хотел было уже письмо запечатать, но в этом ему помешал своим приходом Кетлинг.
– Добрый день, ваша милость!
– Добрый день, день добрый! – ответил Заглоба. – Погода, слава Богу, отменная, а я гонца к Скшетуским послать собрался.
– И от меня поклон передайте.
– Так я и сделал. Непременно, подумал я, от Кетлинга поклон передать надо. Пусть доброй вести возрадуются. Да и как не передать поклон, коли я про тебя да про барышень целое послание сочинил.
– С чего бы это вдруг, ваша милость? – спросил Кетлинг.
Заглоба, сложив руки на коленях, долго перебирал пальцами, а потом, склонив голову, посмотрел на Кетлинга из-под нахмуренных бровей и сказал:
– Друг Кетлинг, не надо быть пророком, чтобы предвидеть, что там, где есть кремень и огниво, раньше или позже посыплются искры. Сам ты мужчина видный, но и девам, должно быть, в красоте не откажешь.
Кетлинг смутился:
– Слепцом я быть должен или варваром последним, чтобы красы их не почитать и не отметить!
– Вот видишь! – сказал в ответ Заглоба, с улыбкой глядя на красного от смущения Кетлинга. – Только ежели ты не варвар, то знай: за двумя сразу приударять негоже, так только турки делают.
– Какие у вас, сударь, для таких рассуждений резоны?
– Тогда спрошу смелее – о чем шла речь?
– О любви! – выпалила, не задумываясь, Бася.
Кетлинг сел рядом с Кшисей. Минуту они молчали, потому что Кшися, обычно умевшая поддержать беседу и светский тон, в присутствии этого рыцаря как-то странно робела. Наконец он сказал:
– Правда ли, разговор шел о столь возвышенном предмете?..
– Да! – тихим голосом отвечала панна Дрогоёвская.
– Я был бы счастлив услышать ваши мысли на сей счет, сударыня.
– Простите, сударь, мне и смелости, и ума на такой ответ не хватит. Тут, пожалуй, за вами первое слово.
– Кшися права! – вмешался Заглоба. – Говори же.
– Ну что же, спрашивайте, сударыня! – отвечал Кетлинг.
Он устремил взор к небесам, задумался, а потом, не дожидаясь вопросов, заговорил тихо, словно сам с собою беседуя:
– Любовь – тяжкое бремя: свободного она делает рабом. Как птица, пронзенная стрелой, падает к ногам охотника, так и человек, сраженный любовью, припадает к стопам любимой. Любовь – это увечье, человек как слепец: кроме нее, ничего вокруг не видит…
Любовь – это грусть, ведь когда еще мы проливаем столько слез и вздыхаем так тяжко? Кто полюбил, тому на ум нейдут ни наряды, ни танцы, ни охота, ни игра в кости; он часами сидит, обняв колени, и тоскует так тяжко, будто близкого друга лишился.
Любовь – это болезнь, ведь влюбленный бледен лицом, под глазами у него тени, в руках дрожь, он худ, помышляет о смерти или бродит как безумный, с нечесаными кудрями, сто раз на песке милое имя пишет, а когда имя сдует ветер, говорит: «Несчастье!..» – и заплакать готов…
Тут Кетлинг на мгновенье умолк. Кто-нибудь сказал бы, что он погрузился в раздумья. Кшися слушала его слова, как музыку, всей душой. Ее оттененные темным пушком губы были приоткрыты, а очи устремлены на рыцаря. Волосы лезли Баське на глаза, трудно было догадаться, о чем она думает; но она тоже молчала.
Вдруг пан Заглоба громко зевнул, засопев, вытянул ноги и сказал:
– Из такой любви шубы не сошьешь!..
– И все же, – продолжал снова рыцарь, – хотя любить – тяжкий труд, без любви еще тяжелее на свете; что тому роскошь, слава, богатства, драгоценности или благовония, кто любви лишился? Кто из нас не скажет своей любимой: «Ты мне дороже целого королевства, дороже, чем скипетр, здоровья и долголетья дороже…» Влюбленный рад был бы жизнь отдать за свою любовь, а стало быть, любовь дороже жизни.
Кетлинг умолк.
Барышни сидели рядышком, дивясь и его пылкости, и умелому красноречию, искусству столь чуждому польским воякам. Даже пан Заглоба, который под конец вроде бы задремал, вдруг встрепенулся и, моргая, стал поглядывать то на девиц, то на Кетлинга и наконец, проснувшись окончательно, громко спросил:
– О чем беседа?
– Хочу сказать вам спокойной ночи! – отвечала Бася.
– Ага! Вспомнил: рассуждали об амурах. И к чему пришли?
– Отделка богаче плаща оказалась.
– Еще бы! А меня сон одолел. А может, и жалобы эти: мечтанья, стенанья, воздыханья. А я возьми да и придумай для складу – засыпанье. И мое слово самое верное, потому что час поздний. Спокойной ночи честной компании, и не докучайте мне больше своими амурами… Боже, Боже! Кот мяучит, пока шкварки не съест, а потом знай сидит да облизывается… И я в свое время был вылитый Кетлинг, а влюблялся так страстно, что себя не помнил, баран мог бы меня под зад рогами поддать, я бы и не заметил. Но на склоне лет мне всего милее добрый сон, особливо если обходительный хозяин не только до постели проводит, но и напоит так, чтоб голова сама клонилась к подушке.
– Рад служить вашей милости! – сказал Кетлинг.
– Пойдем, пойдем. Глядите, вон как месяц-то высоко. К погоде: небо чистое, светло как днем! Кетлинг об амурах всю ночь готов рассуждать, но только не забывайте, козочки, он притомился с дороги.
– О нет, я ничуть не устал, в городе отдыхал два дня. Боюсь, панны слушать меня устали.
– Слушая вас, не заметишь, как ночь миновала, – сказала Кшися.
– Нет ночи там, где солнце светит, – отвечал Кетлинг.
Тут они расстались – ведь и правда давно наступила ночь. Опочивальня у девиц была одна, и они, как водится, подолгу болтали перед сном, но на сей раз Басе не удалось разговорить Кшисю, потому что насколько одной хотелось поговорить, настолько другая была молчалива, на все вопросы отвечала в полслова – да, нет. И каждый раз, когда Бася заводила речь о Кетлинге, смешно изображая его, Кшися нежно обнимала ее за шею, умоляя оставить насмешки.
– Он хозяин этого дома, – говорила Кшися, – он приютил нас… и тебя отметил и полюбил сразу…
– Неужто? – спрашивала Бася.
– Разве можно тебя не любить? – отвечала Кшися. – Все тебя любят, и я, я тоже…
С этими словами она приближала чудное лицо свое к Басиному лицу, терлась щекой об ее щеку, целовала ей очи.
Наконец они угомонились, но Кшися долго не могла уснуть. Какая-то тревога томила ее душу. Сердце начинало вдруг биться так часто, что она прижимала руки к нежным своим персям, лишь бы унять его биение. Стоило ей закрыть глаза – в каком-то чудном сне, прекрасное лицо склонялось над ней, и тихий голос шептал: «Ты мне дороже целого королевства, дороже, чем скипетр, здоровье и долголетье, жизни самой дороже!»
Глава XII
Спустя несколько дней пан Заглоба писал Скшетускому письмо, заключив его такими словами: «А ежели я до коронации к вам выбраться не сумею, не дивитесь. Не мое к вам пренебрежение тому причина, но суть в том, что дьявол не дремлет, а я не хочу, чтобы он пташку из моих рук спугнул и неведомо что подсунул. Худо будет, коли Михалу к его приезду не смогу я сказать: „Эта-де просватана, а гайдучок vacat[49 - Свободен (лат.).]“. На все воля Божья, но полагаю, что, узнав такую новость, Михал не станет упираться, и все без особых praeparationes[50 - Приготовления (лат.).] уладится, так что приедете к свадьбе. А пока, вспомнив Улисса, придется мне прибегнуть к кое-каким уловкам, вести интригу, хоть и нелегко мне это, ибо всю жизнь правда была мне хлебом насущным и ею я весь век бы кормился. Но ради Михала и любимого моего гайдучка я готов взять на душу грех, оба они – чистое золото. Засим обнимаю вас вместе с пострелятами и к сердцу прижимаю, Всевышнему и Его милости препоручая».
Покончив с писаниной, пан Заглоба присыпал лист песком, ударил по нему ладонью и, отставив подальше от глаз, перечел еще раз, после чего сложил, снял с пальца перстень с печаткой, послюнявил ее и хотел было уже письмо запечатать, но в этом ему помешал своим приходом Кетлинг.
– Добрый день, ваша милость!
– Добрый день, день добрый! – ответил Заглоба. – Погода, слава Богу, отменная, а я гонца к Скшетуским послать собрался.
– И от меня поклон передайте.
– Так я и сделал. Непременно, подумал я, от Кетлинга поклон передать надо. Пусть доброй вести возрадуются. Да и как не передать поклон, коли я про тебя да про барышень целое послание сочинил.
– С чего бы это вдруг, ваша милость? – спросил Кетлинг.
Заглоба, сложив руки на коленях, долго перебирал пальцами, а потом, склонив голову, посмотрел на Кетлинга из-под нахмуренных бровей и сказал:
– Друг Кетлинг, не надо быть пророком, чтобы предвидеть, что там, где есть кремень и огниво, раньше или позже посыплются искры. Сам ты мужчина видный, но и девам, должно быть, в красоте не откажешь.
Кетлинг смутился:
– Слепцом я быть должен или варваром последним, чтобы красы их не почитать и не отметить!
– Вот видишь! – сказал в ответ Заглоба, с улыбкой глядя на красного от смущения Кетлинга. – Только ежели ты не варвар, то знай: за двумя сразу приударять негоже, так только турки делают.
– Какие у вас, сударь, для таких рассуждений резоны?