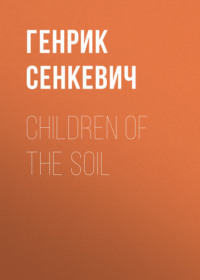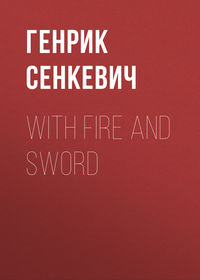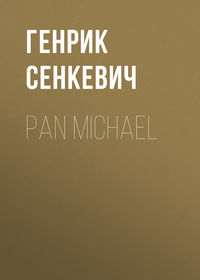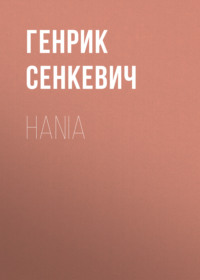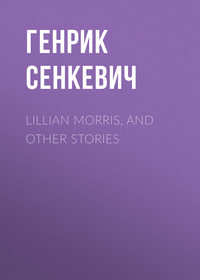Огнем и мечом
«Я в Каменце, куда дорога через Сатанов безопасна. Еду в Ягорлык, вместе с купцами-армянами, которых мне указал пан Буковский. У них татарские и казацкие грамоты на свободный проезд до Аккермана. Едем с товарами на Ушицу, Могилев и Ямполь и будем останавливаться по пути везде, где только есть живые люди; может, Бог поможет найти чего ищем. Скажите моим друзьям, Заглобе и Володыевскому, чтобы они ждали меня в Збараже, если им нечего делать, так как по той дороге, куда я теперь еду, ехать нельзя: можно возбудить подозрение казаков, что зимуют в Ямполе и над Днестром до Ягорылыка и держат лошадей в снегах. Чего не сделаю я один, того не сделать втроем, притом же я похож на армянина. Поблагодарите их от души за желание помочь мне, чего я до гроба не забуду; ждать же я их не мог, это было выше моих сил, и я не мог знать наверное, приедут ли они или нет; теперь самое лучшее время для поисков, купцы разъезжают с бакалейными и суконными товарами. Посылаю к вам верного слугу и прошу о нем позаботиться, он для меня лишний, и я боюсь, чтобы он, по своей молодости, не проговорился. Буковский ручается за честность купцов. То же думаю и я и верю, что все в руках Господа: если он захочет, то окажет нам свое милосердие и сократит мучения. Аминь!»
Заглоба окончил чтение и взглянул на своих товарищей; они молчали; наконец Вершул заговорил первым:
– Я знал, что он туда поехал.
– Что же нам делать? – спросил Володыевский.
– Что делать? – разводя руками, переспросил Заглоба. – Теперь нам нечего делать. Хорошо, что он едет с купцами, так он может всюду заглядывать без всякой опасности, не возбуждая подозрения. В каждой хате, на каждом хуторе найдется кому что купить, так как казаки ограбили половину Речи Посполитой. Трудно было бы нам попасть за Ямполь. Скшетуский смугл, как валах, и легко может сойти за армянина, а по вашим белобрысым усам сейчас бы узнали. В крестьянской одежде тоже трудно было бы пробраться… Помогай ему Бог! Мы были бы там лишние, хоть, признаюсь, я очень жалею, что мы будем непричастны к освобождению нашей бедняжки. Зато мы оказали Скшетускому большую услугу, убив Богуна: будь он жив, я бы не поручился за здоровье пана Яна.
Володыевский был очень недоволен; он надеялся на путешествие, полное приключений, а между тем предстояло длинное и скучное прозябание в Збараже.
– Не доехать ли нам хотя бы до Каменца? – спросил Володыевский.
– Что же мы там будем делать и чем жить? – ответил Заглоба. – Нам все равно, где сидеть; нужно ждать и ждать, путешествие, наверно, займет много времени у Скшетуского. Человек молод до тех пор, пока он может двигаться, – Заглоба меланхолически опустил голову на грудь, – а старится в бездействии, да что же делать, обойдется он и без нас. Завтра мы отслужим торжественную обедню, чтобы ему посчастливилось. Главное, мы избавились от Богуна. Прикажите-ка расседлать лошадей, и будем ждать.
Для двух друзей настали длинные, однообразные дни ожидания, которые не могла сократить ни игра в кости, ни попойки, и тянулись они без конца. А уже настала суровая зима. Снег выпал на аршин и покрыл збаражские окрестности; звери и птицы приблизились к человеческому жилью. По целым дням слышалось карканье воронов. Прошел декабрь, потом январь и февраль, а о Скшетуском не было слышно ни звука.
Володыевский ездил в Тарнополь искать приключений. Заглоба грустил и уверял, что он старится.
XVI
Комиссары, высланные Речью Посполитой для переговоров с Хмельницким, добрались наконец с большим трудом до Новоселок, где и остановились в ожидании ответа от непобедимого гетмана, который между тем пребывал в Чигирине. Они сидели грустные и подавленные, ибо во все время пути им грозила смерть и на каждом шагу увеличивались препятствия. День и ночь окружали их толпы черни, одичавшей вконец в убийствах и войне, и добивались смерти комиссаров. То и дело встречались им отдельные шайки разбойников и диких чабанов, не имевших ни малейшего понятия о правах послов и жаждавших лишь крови и добычи. Правда, комиссары имели в своем распоряжении сотню всадников, которыми командовал пан Брышовский, и кроме того, Хмельницкий, предвидя, что может встретить их по пути, прислал им полковника Донца с четырьмя сотнями молодцов, но конвой этот мог оказаться недостаточным, так как дикие толпы росли с каждой минутой, и образ действий их с каждым разом становился все более угрожающим. Кто только из конвоя отдалялся хоть на минуту от общей массы, тот пропадал бесследно. Они были похожи на горсть путников, окруженных бесчисленной стаей проголодавшихся волков.
Так проходили дни и недели; на ночлеге в Новоселках им казалось, что настал их последний час. Драгуны и конвой Донца с вечера вели настоящую войну за жизнь комиссаров, а те, молясь за умирающих, поручали душу Богу. Кармелит Лентовский по очереди исповедовал их, а между тем в окна вместе с дуновением ветра неслись отголоски выстрелов, адский хохот, крики, требования о выдаче воеводы Киселя, который был предметом ненависти черни. Это была страшная, долгая зимняя ночь! Воевода Кисель, опершись головой на руку, сидел без движения в продолжение нескольких часов. Он не боялся смерти, – со времени отъезда из Гущи он был так утомлен и измучен, что, казалось, готов был с радостью встретить смерть, – но душу его охватило безграничное отчаяние. Ведь именно он, русский по крови и плоти, первый взял на себя роль миротворца в этой беспримерной войне, он выступал везде, в сенате и на сейме, как горячий сторонник переговоров; он поддерживал политику канцлера и примаса; он больше всех порицал Еремию и действовал, по своему крайнему разумению, на пользу казачества и Речи Посполитой. И верил всей душой, что переговоры и уступки умиротворят все, успокоят. И именно теперь, в минуту, когда он вез Хмельницкому булаву и уступки казачеству, он усомнился во всем: он увидел всю тщетность своих усилий, увидел под ногами пустоту и бездну.
«Неужели они ничего не хотят, кроме крови? – думал Кисель. – Хотят ли они настоящей свободы или свободы грабежей и поджогов?» И он сдерживал стоны, разрывавшие его благородную грудь.
– Голову Киселеву! Голову Киселеву! Погибель ему! – отвечала толпа на его мысли.
И воевода охотно принес бы им в дар свою горемычную голову, если б не вера, что для спасения Речи Посполитой им и всему казачеству нужно дать больше, чем его голова. Пусть же будущее научит их желать этого!
Когда он так раздумывал, какой-то дух надежды и отваги осветил на минуту тот мрак, который поселило в нем отчаяние; несчастный старик уверял себя, что эта чернь – далеко не все казачество, не Хмельницкий и его полковники и что с ними только и начнутся переговоры.
– Но могут ли они быть прочны, пока полумиллионная толпа крестьян стоит под оружием? Не растают ли они с первым веянием весны, как снег, который покрывает теперь степь? – И ему снова приходили в голову слова Еремии: «Милость можно оказать только побежденным!»
И снова мысли его тонули во мраке, а под ногами открывалась бездонная пропасть.
Было уже за полночь. Шум и выстрелы немного утихли, их сменил свист ветра, на дворе бушевала метель, усталая толпа, по-видимому, стала расходиться по домам, и надежда вернулась в сердца комиссаров.
Войцех Мясковский, подкоморий львовский, поднялся со скамьи, прислушиваясь у окна, занесенного снегом, и сказал:
– Видно, с Божьей помощью, мы доживем еще до утра!
– Быть может, Хмельницкий пошлет побольше людей для охраны, – сказал пан Смяровский, – с этим конвоем нам не дойти.
Пан Зеленский, подчаший брацлавский, горько улыбнулся.
– Кто бы мог сказать, что мы – послы мира?
– Я бывал не раз послом у татар, – говорил новогрудский хорунжий, – но такого посольства я не видывал никогда в жизни. В нашем лице Речь Посполитая унижена больше, чем под Корсунью и Пилавцами. И я вам советую вернуться, а о переговорах нечего и думать.
– Да, вернемся, – повторил как эхо пан Бржозовский, каштелян киевский. – Если нельзя заключить мир, пусть будет война.
Воевода Кисель поднял свои стеклянные глаза и остановил их на каштеляне.
– Желтые Воды, Корсунь, Пилавцы! – глухо произнес он и замолчал, и за ним замолчали все, и лишь пан Кульчинский, скарбник киевский, начал вслух читать молитву, а ловчий Кшечовский, сжав голову руками, повторял:
– Что за времена, что за времена! Господи, помилуй нас!
В эту минуту дверь раскрылась и пан Брышовский, капитан драгун епископа познанского, командовавший конвоем, вошел в избу.
– Ясновельможный воевода, – сказал он, какой-то казак хочет видеть панов комиссаров.
– Хорошо, – ответил Кисель, – а чернь разошлась?
– Разошлась, но обещала завтра вернуться.
– Очень напирали?
– Страшно, но казаки Донца убили нескольких из них; завтра они обещали сжечь нас.
– Хорошо, пусть войдет казак.
Через минуту дверь открылась, и какая-то фигура с черной бородой остановилась у порога.
– Кто ты? – спросил Кисель.
– Ян Скшетуский, гусарский поручик князя-воеводы русского.
Каштелян Бржозовский, Кульчинский и ловчий Кшечовский вскочили с мест. Все они служили последнее время вместе с князем под Махновкой и Константиновом и хорошо знали поручика, а Кшечовский слыл даже его родственником.
– Правда! Правда! Это Скшетуский! – повторяли они.
– Что ты здесь делаешь и как попал сюда? – спросил Кшечовский, обнимая его.
– Как видите, Панове, в крестьянской одежде, – ответил Скшетуский.
– Мосци-воевода, – крикнул каштелян Бржозовский, – это первейший рыцарь из хоругви воеводы русского.
– Сердечно приветствую его, – сказал Кисель, – я вижу, что это великой храбрости кавалер, если он пробрался к нам.
И, обращаясь к Скшетускому, прибавил:
– Чего вы хотите от нас?
– Чтобы вы, панове, позволили мне ехать вместе с вами.
– Вы лезете в пасть дракону!.. Впрочем, если такова ваша воля, мы против этого ничего не имеем.
Скшетуский молча поклонился.
Кисель смотрел на него с удивлением.
Суровое лицо молодого рыцаря поразило его серьезностью и скорбью.
– Скажите мне, ваць-пане, – сказал воевода, – какая причина гонит вас в тот ад, куда никто по доброй воле не идет?
– Несчастье, ясновельможный воевода.
– Напрасно я спросил. Вы, верно, потеряли кого-нибудь из близких и едете отыскивать там?
– Точно так.
– Давно это случилось?
– Прошлой весной.
– Как так? И вы только теперь собрались на поиски. Ведь уж почти год! Что же вы до сих пор делали?
– Я дрался в рядах русского воеводы.
– Неужели столь добрый начальник не хотел вас отпустить?
– Я сам не хотел.
Кисель снова взглянул на молодого рыцаря; наступило молчание, которое прервал каштелян киевский:
– Всем нам, кто служил у князя, известны несчастья этого кавалера, над коими мы пролили уже не одну слезу, а что он желал, пока была война, служить отчизне вместо того, чтобы думать о себе, достойно еще большего одобрения. Это редкий пример в нынешнее испорченное время.
– Если окажется, что мое слово что-нибудь значит у Хмельницкого, то поверьте, что я не пожалею его в вашем деле, – сказал Кисель.
Скшетуский опять поклонился.
– А теперь идите отдохнуть, – ласково сказал воевода, – вы, верно, устали, как и мы все, не имея ни минуты покоя.
– Я возьму его с собой, он мой родственник, – сказал пан ловчий Кшечовский.
– Пойдем и мы все отдохнуть, – оказал Бржозовский, – может быть, сегодня мы спим уже последнюю ночь.
– Может быть, уснем вечным сном, – докончил воевода.
С этими словами он направился в комнату, у двери которой ожидал слуга; за ним разошлись и все остальные. Кшечовский повел Скшетуского к себе на квартиру, которая была на несколько домов дальше. Слуга с фонарем шел впереди.
– Какая темная ночь, – сказал ловчий, – и вьюга усиливается. Эх, пан Ян, что мы сегодня пережили! Я думал, что это судный день. Чернь почти что держала нож у нашего горла. У Брышовского, бедняги, руки устали драться. Мы уж начали было прощаться.
– Я был среди черни, – ответил Скшетуский. – Завтра к вечеру ожидают новую шайку разбойников, которым донесли о вас. Завтра надо непременно уезжать отсюда. Вы едете в Киев?
– Это зависит от распоряжений Хмельницкого, к которому поехал князь Четвертинский. Вот моя комната, войди, пан Ян, я велел согреть нам вина, и мы подкрепимся перед сном.
Они вошли в избу; в печке горел яркий огонь. Дымящееся вино стояло на столе. Скшетуский с жадностью схватил стакан.
– Со вчерашнего дня у меня ничего не было во рту, – сказал он.
– Ты страшно похудел. Видно, печали и труды подкосили твое здоровье. Ну, расскажи-ка мне про себя. – Я знаю кое-что про твои дела – ты думаешь найти там, среди казаков, княжну?
– Или ее, или смерть, – ответил рыцарь.
– Смерть найти легче; почему же ты знаешь, что княжна там? – спросил ловчий.
– Потому что я искал ее уже везде.
– Где же?
– От Днестра до Ягорлыка я ездил с купцами-армянами, так как были сведения, что она там; я был везде, а теперь еду в Киев, потому что Богун намеревался свезти ее туда.
Едва поручик произнес имя Богуна, как ловчий схватился за голову.
– Ведь я тебе не сообщил самой важной новости. Я слышал, что Богун убит!
Скшетуский побледнел.
– Как? Кто тебе сказал?
– Да тот шляхтич, который уже раз спас княжну, который под Константиновой так показал себя. Я его встретил по пути в Замостье. Мы разминулись с ним в дороге. Едва я успел его спросить о новостях, как он мне говорит, что Богун убит. Я спросил его: «Кто его убил?» «Я!» – ответил он. И потом мы разъехались.
Огонь, вспыхнувший на лице Скшетуского, вдруг погас.
– Этому шляхтичу едва ли можно верить. Нет, он не мог бы убить Богуна!
– А ты его не видел? Помнится, он говорил, что едет к тебе в Замостье.
– Я в Замостье его не дождался, он, по-видимому, поехал теперь в Збараж, но мне необходимо было догнать комиссаров, и я из Каменца не возвращался в Збараж и с ним не виделся. Бог весть, правда ли это, что он мне раньше говорил про нее, будто он, будучи в плену у Богуна, подслушал, что она спрятана за Ямполем и что Богун хотел потом перевезти ее в Киев и повенчаться с нею. Может быть, это ложь, как все, что говорит Заглоба…
– Зачем же ты в таком случае едешь в Киев?
Скшетуский замолчал; некоторое время слышен был только шум и свист ветра.
– Если Богун не убит, то ты можешь попасть в его руки, – сказал ловчий, прикладывая пальцы ко лбу.
– Да я затем и еду, чтобы его найти, – глухо ответил Скшетуский.
– Как так?
– Пусть свершится над нами суд Божий!
– Ведь он драться с тобой не станет, а просто велит убить тебя или продаст татарам.
– Но я теперь в свите комиссаров!
– Дай бог, чтобы мы сами спасли свои головы, а что уж говорить о свите!
– Кому жизнь тяжела, тому могила легка.
– Побойся ты Бога, пан Ян! Здесь дело не в смерти, она никого не обойдет, но они могут продать тебя туркам.
– Неужели ты думаешь, что мне там хуже будет, чем здесь?
– Я вижу, что ты впал в отчаяние и не веришь в милосердие Божье.
– Ошибаешься! Я говорю лишь, что мне плохо на свете, но я давно примирился с волей Господней. Я не прошу, не молю, не проклинаю, не бьюсь лбом о стену, я хочу лишь, пока жив, исполнить свой долг.
– Однако печаль снедает тебя, как яд.
– На то Бог и посылает муки, чтобы они отравляли человека, а когда захочет, пошлет и лекарство.
– Мне нечего отвечать на такой довод, – сказал ловчий. – В Боге наша надежда и спасение, как наша, так и Речи Посполитой. Король поехал в Ченстохов, может быть, он вымолит у Пресвятой Девы что-нибудь, иначе все мы погибнем.
Настала тишина, из-за окон слышались только окрики драгун: «Кто идет?»
– Да, да, – сказал немного спустя ловчий. – Все мы скорее мертвецы, чем живые люди. Разучились люди смеяться в Речи Посполитой, слышны лишь стоны, как вой ветра в трубе. И я верил, что настанут лучшие времена, пока вместе с прочими не приехал сюда; а теперь я вижу, что напрасна была моя надежда. Разорение, война, голод, убийства, и больше ничего, ничего.
Скшетуский молчал; пламя огня, из топившейся печки, освещало его исхудалое, суровое лицо.
Наконец он поднял голову и серьезно сказал:
– Земная жизнь пройдет и не оставит после себя даже следа.
– Ты говоришь, как монах, – сказал ловчий.
Скшетуский не ответил, а ветер все жалостнее стонал в трубе.
XVII
На следующий день утром комиссары, а с ними и Скшетуский, уехали из Новоселок, но путешествие это было плачевно: на каждой остановке, в каждом местечке им грозила смерть и горшее чем смерть – оскорбление, и оно было тем чувствительнее, что комиссары олицетворяли собой величие и могущество Речи Посполитой. Пан Кисель расхворался, так что его на каждом ночлеге вносили в избу прямо из саней. Львовский подкоморий заливался слезами, так как был не в силах переносить оскорблений, наносимых ему и его отчизне; капитан Брышовский тоже заболел от бессонницы и трудов, и место его занял пан Скшетуский, продолжая вести этот злосчастный отряд среди натиска толпы, оскорблений, угроз и даже сражений.
В Белгороде комиссарам опять показалось, что настал их последний час. Чернь избила больного Брышовского, убила Гняздовского, и комиссаров спасло от готовившейся уже резни лишь то, что приехал митрополит для переговоров с воеводой. В Киев комиссаров совсем не хотели впускать. Князь Четвер-тинский вернулся от Хмельницкого 11 февраля без всякого ответа. Комиссары не знали, что им дальше делать и как быть. Возвращаться было невозможно, так как дорогу загородили мятежные шайки черни, ждавшие только неудачи переговоров, чтобы изрубить посольство. Народ становился все более и более дерзким, он хватал лошадей под уздцы, бросал камнями, льдышками, снегом в сани воеводы. В Гвоздовой Скшетуский и Донец должны были вступить в кровавый бой, чтобы разогнать толпу черни в несколько сот человек.
Хорунжий новогрудский и Смяровский поехали к Хмельницкому, чтобы убедить его приехать в Киев для переговоров, но воевода мало надеялся, что они доедут до него живыми. А между тем в ожидании ответа комиссары должны были смотреть сложа руки, как в Хвастове мучили пленных без различия пола и возраста, топили в прорубях, поливали водой на морозе, кололи вилами или сдирали кожу с живых. Так прошло восемнадцать дней, пока наконец пришел ответ от Хмельницкого, что он не желает ехать в Киев и будет ждать воеводу и комиссаров в Переяславе.
Несчастные послы немного передохнули, думая, что кончилась уже их мука, и, переправившись через Днепр, отправились на ночлег в Воронково, откуда было только шесть миль до Переяслава. Им навстречу выехал Хмельницкий, якобы для того, чтобы оказать честь королевскому посольству, но как же он изменился с тех пор, как стал считать себя обиженным. Quantum mutatus ab illo[67], – как справедливо писал о нем воевода Кисель.
Он выехал в сопровождении нескольких десятков всадников с полковниками, есаулами и военной музыкой, со значком, бунчуком и красным знаменем, совсем как удельный князь. Комиссарское шествие тотчас же остановилось, а он подскакал к саням, в которых ехал воевода и, некоторое время всматриваясь в его старческое лицо, слегка приподнял шапку и сказал:
– Поклон вам, Панове комиссары, и тебе, пане воевода! Лучше бы раньше начать со мной переговоры, когда я не так много значил и не был так силен, но так как вас послал ко мне король, то принимаю вас на своей земле от чистого сердца.
– Привет тебе, мосци-гетман! – сказал Кисель. – Его величество король послал нас выразить тебе его благосклонность и учинить во всем справедливость.
– Благодарю за милость, а справедливость я уже установил вот этим, – он ударил рукой по сабле, – и сделаю еще больше, если вы меня не удовлетворите.
– Не слишком-то ласково ты встречаешь нас, гетман запорожский, нас, послов королевских…
– Не буду говорить на морозе, будет время способнее, – возразил Хмельницкий, – холодно. Пусти меня, Кисель, в свои сани, я хочу честь вам оказать и ехать вместе с вами.
С этими словами Хмельницкий слез с лошади и подошел к саням. Кисель же подвинулся к правой стороне, оставляя свободной левую сторону.
– Да ты мне давай правую руку.
– Я – сенатор Речи Посполитой!
– Да что мне, что ты сенатор! Потоцкий первый сенатор и коронный гетман, а я держу его в руках вместе с другими и завтра, если захочу, велю на кол посадить.
Густая краска выступила на бледном лице Киселя.
– Я представляю особу короля!
Хмельницкий нахмурился еще больше, но сдержался и сел с левой стороны, ворча:
– Пусть король будет в Варшаве, а я – на Руси! Мало я вам намылил шеи… Кисель ничего не ответил и лишь поднял глаза к небу; он предчувствовал
заранее, что его ожидало, и справедливо думал в эту минуту, что если дорога к Хмельницкому была Голгофой, то быть у него послом – настоящая крестная мука.
Лошади тронулись к городу, где палили из двадцати пушек и звонили во все колокола. Хмельницкий, опасаясь, как бы послы не подумали, что это делается исключительно в честь их приезда, обратился к воеводе и сказал:
– Я не только вас, я и других послов, которых ко мне присылали, так принимал.
И Хмельницкий говорил правду: действительно, к нему, как к удельному князю, присылали посольства. Возвращаясь из-под Замостья, под впечатлением выборов и поражений, нанесенных литовским войском, он лишился и половины той надменности, которая была в нем раньше, но, когда Киев встретил его со свечами и хоругвями и когда академия приветствовала его словами: «Tmquam Moysem, servatorem, salvatorem, liberatorem populi de Servitute lechica et bono nomine Bohdan»[68] – Богом данный, когда назвали его illustrissimus princeps[69], – тогда, по словам его современников: «возгордился этим зверь».
Действительно, он почувствовал за собой силу и почву под ногами, которой до тех пор ему не хватало.
Иностранные посольства были молчаливым признанием его могущества и власти; непоколебимая дружба татар, оплачиваемая большей частью добычей и несчастными пленными, которых этот народный вождь позволял брать, – обещала мощную помощь против каждого врага. Поэтому Хмельницкий, еще под Замостьем чувствовавший власть и волю короля, теперь, гордый, убежденный в своей силе и в непорядках в Польше, слабости ее вождей, – готов был поднять руку на самого короля, думая, в гордости своей, не о свободе казаков, но о возвращении прежних привилегий, не о справедливости для себя, но об удельном княжестве, о княжеской шапке и жезле.
Он чувствовал себя властелином Украины; Запорожье всегда останется при нем; ни под чьей властью не купалось оно так в крови, не имело такой богатой добычи, как под его властью. Дикий по натуре народ тянулся к нему, ибо, как мазовецкий или великопольский холоп безропотно сносил иго власти и угнетения, во всей Европе доставшееся в удел «потомками Хама», так украинец вместе с воздухом широких степей вдыхал в себя любовь к свободе, столь неограниченной, дикой и буйной, как самые степи. Зачем ему было ходить за панским плугом, когда его взор терялся в Божьей, а не панской пустыне, когда из-за порогов Сечь звала его к себе: «Брось пана и иди на волю!», когда жестокий татарин учил его воевать, приучал к поджогам и убийствам, а руки – к оружию? Не лучше ли ему буйствовать у Хмеля и резать панов, чем гнуть свою спину перед подстаростой?
Кроме того, к Хмельницкому народ стремился потому, что кто не присоединялся к нему добровольно, тот попадал в неволю. В Стамбуле за десять стрел давали невольника, за один лук, закаленный в огне, – трех: так много их было. Черни выбирать было нечего, и только сложилась, в то время странная песенка, долго переходившая из поколения в поколение, песнь удивительная, о том вожде, которого звали Моисеем: «Ой, щоб того Хмеля перша куля (пуля) не минула».
Исчезали города, местечки и деревни, страна превращалась в пустыню и разв&дины, в сплошную рану, которой не могли излечить целые века; но этот вождь и гетман не видел этого или не хотел видеть, он никогда ничего не видел за собою, рос и питался огнем и мечом, в своем чудовищном самолюбии топил собственный народ и страну. И вот он ввозил теперь комиссаров в Переяслав при пушечных выстрелах, при звоне колоколов, как удельный владыка, господарь, князь.
Комиссары, свесив головы, ехали в логовище льва, и остаток их надежды погас окончательно, а между тем Скшетуский, ехавший за вторым рядом саней, пристально всматривался в лица полковников, прибывших с Хмельницким, не видно ли между ними Богуна. После бесплодных поисков над Днестром, до Ягорлыка и дальше, в душе его созрел последний и единственный план отыскать Богуна и вызвать его на смертный бой. Впрочем, несчастный рыцарь знал, что Богун может его без борьбы стереть с лица земли или просто отдать татарам, но он был лучшего мнения о нем: он знал его мужество и был уверен, что, имея выбор, Богун станет биться за княжну. Поэтому он начал составлять в своей истерзанной душе целый план, как он свяжет Богуна клятвой, чтобы в случае смерти его тот отпустил Елену. О себе он не заботился и допускал, что Богун скажет ему: «Если я погибну, то она ни твоя, ни моя!» Он готов был и на это согласиться, только бы ее освободить из вражьих рук. Пусть уж лучше она ищет в монастыре покоя в дальнейшей жизни, он тоже найдет его в войне или под рясой монаха (в те времена многие находили спокойствие в монастырях). Скшетускому этот путь казался прямым и ясным, и когда под Замостьем ему подали мысль бороться с Богуном, а поиски княжны в надднестровских камышах ни к чему не привели, то этот путь казался ему единственным. С этой целью он без передышки мчался в комиссарский отряд, надеясь найти Богуна или в свите Хмельницкого, или в Киеве, тем более что в Ярмолинцах Заглоба говорил, что атаман намерен был приехать в Киев и гам повенчаться при трехстах свечах.