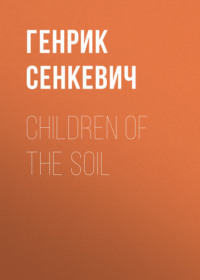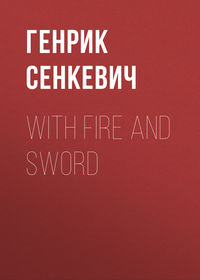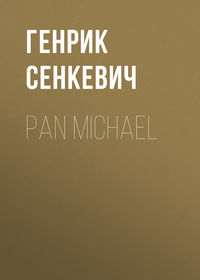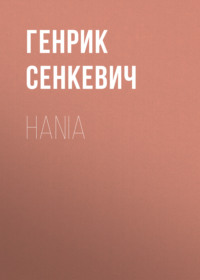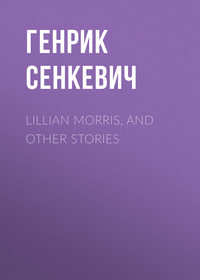Пан Володыевский
Турки втаскивали на шанцы новые орудия, кроме того, бесчисленные толпы их расположились в новом замке, скрываясь во рвах и среди развалин, чтобы быть наготове к рукопашной атаке.
Как уже было сказано, крепость начала канонаду так успешно, что произошел полный переполох в турецких шанцах.
Но бимбаши[27] тотчас снова выстроили янычар; в то же время загремели и турецкие орудия. На головы осажденных полетели ядра, гранаты, картечь, осколки камней, штукатурка, кирпич… Дым смешивался с пылью, жар пламени с солнечным зноем. Нечем было дышать, ничего нельзя было разглядеть. Гром пушек, треск гранат, скрежет пуль о камни, крики турок, крики защитников слились в один страшный хор, который эхом отдавался в скалах. Ядра засыпали замок, засыпали город, все ворота, все башни. Но замок отчаянно защищался: на пушечные залпы отвечал залпами; дрожал, сверкал огнем, тонул в облаках дыма, гремел, дышал смертью и уничтожением, как будто охваченный гневом, как будто поклявшийся заглушить турецкие залпы, провалиться сквозь землю или победить.
Внутри замка, под градом пуль, среди огня, пыли и дыма, метался маленький рыцарь, бросаясь от орудия к орудию, от одной стены к другой, от одного угла к другому, подобно всеуничтожаюшему пламени. Казалось, он двоился, троился; был везде, кричал, ободрял, воодушевлял. Где погибал канонир, там он заменял его и, приободрив одних, бежал к другим. Его увлечение передавалось солдатам. Они поверили, что это последний штурм, после которого наступит мир. Вера в победу придавала им мужество и стойкость, боевой пыл охватил их. То и дело из их груди вырывались крики и вызовы неприятелю. Некоторые приходили в такую ярость, что бросались за стены крепости, чтобы столкнуться с янычарами в рукопашном бою.
Под покровом порохового дыма янычары дважды толпой бросались к пролому и оба раза отступали в полном замешательстве, оставляя за собой целые груды трупов. В полдень им было прислано большое подкрепление из ополченцев и джамаков, но это было плохо обученное войско; джамаки выли диким голосом и не хотели идти на приступ, несмотря на то, что их сзади подгоняли копьями. Приехал каймакан, но ничто не помогло. Каждую минуту мог наступить всеобщий переполох, граничащий с безумием, а потому приказано было отступить, и только пушки по-прежнему работали без отдыха и метали громы и молнии.
Так проходили целые часы. Солнце уже перешло зенит и смотрело на эту битву бессветное, багровое, дымное, точно заслоненное заревом. Около трех часов пополудни грохот пушек был так ужасен, что в крепости невозможно было расслышать даже громкого крика. Воздух в замке накалился, как в печке. Вода, которой поливали пушки, моментально испарялась, и пар этот, смешиваясь с дымом, заслонял солнечный свет. А пушки все гремели.
В четвертом часу у турок были разбиты три больших орудия. Несколько минут спустя была разбита и мортира, которая стояла недалеко от пушек. Канониры гибли, как мухи. С каждой минутой становилось очевидным, что этот неприступный замок берет верх в борьбе, что он заглушит гром турецких орудий и скажет последнее слово победы.
Турецкий огонь стал понемногу ослабевать.
– Скоро конец! – крикнул изо всех сил своей груди Володыевский на ухо Кетлингу, желая, чтобы он расслышал его среди пушечных залпов.
– Я тоже думаю. Завтра или дольше!
– Может быть, дольше. Но сегодня победа за нами!
– И благодаря нам!
– Нам надо подумать об этой новой мине.
Турецкий огонь все ослабевал.
– Стреляй из пушек! – крикнул Володыевский.
И бросился к канонирам.
– Огня, ребята, – крикнул он, – пока не затихнет последнее турецкое орудие. Во славу Пречистой Девы! Во славу Речи Посполитой!
Солдаты, видя, что штурм близится к концу, ответили громким радостным криком и с еще большим жаром начали стрелять в сторону турецких шанцев.
– Вечернюю зорю, собаки, зорю вечернюю вам сыграем! – воскликнули солдаты.
Вдруг случилось что-то странное. Все турецкие пушки сразу умолкли, словно по чьему-то мановению. Утихли и янычарки в новом замке. Старая крепость гремела еще некоторое время, но, наконец, офицеры стали переглядываться друг с другом и спрашивать в недоумении:
– Что такое? Что случилось?
Кетлинг, несколько встревоженный, тоже прекратил стрельбу. Один из офицеров сказал вслух:
– Под нас мину подвели и хотят взорвать, что ли?
Володыевский, окинув офицера грозным взором, сказал ему:
– Подкоп еще не окончен, а если и кончен, то от взрыва пострадает только левая сторона замка. Но даже в развалинах мы будем защищаться до последнего издыхания. Вы поняли?
После этого наступила тишина, которую не нарушил ни один выстрел ни в городе, ни в турецких шанцах. После грохота, от которого дрожали стены и земля, в этой тишине было нечто торжественное и вместе с тем зловещее. Все с напряжением смотрели в ту сторону, где находились турецкие окопы, но за облаками дыма ничего нельзя было разглядеть. Вдруг с левой стороны крепости послышались равномерные удары ломов.
– Я говорил, что мину только подводят! – заметил Володыевский.
И он обратился к Люсне:
– Вахмистр! Возьми двадцать человек и осмотри тотчас же новый замок.
Опять наступила тишина, нарушаемая лишь предсмертными хрипами, икотой умирающих и ударами под землею.
Они ждали довольно долго; наконец вернулся вахмистр.
– Пан комендант, – сказал он, – в новом замке нет ни души.
Володыевский с удивлением взглянул на Кетлинга.
– Уж не сняли ли они осаду? Сквозь дым ничего нельзя разглядеть.
Наконец дым развеяло порывом ветра, и из его облаков показался город.
Вдруг с башни кто-то крикнул ужасным, испуганным голосом:
– На воротах белое знамя! Мы сдаемся!
Услыхав это, офицеры и солдаты оглянулись на город. Недоумение и изумление отразилось на их лицах, слова замерли на устах, и сквозь облака дыма они продолжали смотреть на город.
В городе на Русских и Ляшских воротах действительно развевались белые знамена, виднелось и еще одно знамя на башне Батория.
Лицо маленького рыцаря вдруг побледнело и стало таким же белым, как те развевающиеся знамена.
– Ты видишь, Кетлинг, – прошептал он, обращаясь к товарищу.
– Вижу! – ответил Кетлинг.
Несколько минут они безмолвно смотрели друг другу в глаза и сказали ими все, что могли сказать такие два рыцаря без страха и упрека, которые никогда в жизни не нарушали своего слова и которые поклялись перед алтарем скорее погибнуть, чем сдать замок неприятелю. И вот теперь после такой обороны, после такой борьбы, напоминающей осаду Збаража, теперь, когда штурм был отбит и победа была за ними, им приказывают нарушить клятву, сдать крепость и жить.
Как незадолго перед тем над замком носились зловещие ядра, так теперь в их голове пронеслись зловещие мысли. Сердца их сжимались от безумной безмерной скорби – скорби о двух дорогих существах, скорби о жизни, скорби о счастье, и как безумные, как мертвецы, они глядели друг на друга; порой они устремляли полные отчаяния взгляды на город, словно желая убедиться, не обман ли это зрения, действительно ли пробил их последний час.
Между тем со стороны города послышался конский топот, и минуту спустя прискакал к крепости юный Гораим, ординарец генерала подольского.
– Приказ коменданту! – крикнул он, осадив коня.
Володыевский взял приказ, прочел его молча и спустя минуту, среди гробовой тишины, сказал офицерам:
– Мосци-панове! Комиссары уже переправились через реку в Длужек для подписания договора. Через минуту они вернутся… Мы должны до вечера удалить из крепости войско и вывесить белое знамя немедля.
Никто не произнес ни слова. Слышно было лишь учащенное дыхание. Наконец, Квасибродский нарушил молчание:
– Надо вывесить знамя. Я сейчас соберу людей!
Тотчас в нескольких местах послышалась команда. Солдаты начали строиться в ряды и вскинули ружья на плечи. Лязг мушкетов и мерный топот отдались эхом в безмолвии крепости.
Кетлинг подошел к Володыевскому.
– Пора? – спросил он.
– Подожди комиссаров, надо узнать условия. А главное – я сам сойду туда.
– Нет. Я сойду! Я лучше тебя знаю погреба, знаю, где что лежит. Дальнейший разговор был прерван криками:
– Комиссары возвращаются! Комиссары возвращаются!
И, действительно, спустя некоторое время в замке показались три несчастных посла. Это были: судья подольский, Грушецкий, стольник Жевуский и хорунжий черниговский, пан Мыслишевский. Они шли понурив головы, на плечах у них были затканные золотом кафтаны, полученные ими в подарок от визиря.
Володыевский ждал их, опершись на теплое и еще дымящееся орудие, обращенное к Длужку.
Все трое молча поздоровались с ним, и он спросил:
– Какие условия?
– Город будет не тронут. Жителям обеспечены и жизнь, и имущество. Каждый, кто не пожелает остаться, имеет право отправиться, куда ему угодно.
– А Каменец?
Комиссары опустили головы.
– Султану… во веки веков.
Потом комиссары ушли, но не через мост, где уже собрались толпы народа, а в сторону, через южные ворота. Спустившись вниз к реке, они сели в челн, чтобы отправиться к Ляшским воротам. В низине между скалами, вдоль реки, начали уже показываться янычары. Из города стекались все новые толпы народа и заняли площадь против старого замка. Многие хотели бежать в замок, но, по приказанию маленького рыцаря, их удерживало войско.
А он, отправив войска, позвал пана Мушальского и сказал ему:
– Старый товарищ, окажи мне одну услугу, пойди сейчас к моей жене и скажи ей от меня…
Тут слова застряли в горле маленького рыцаря.
– И скажи ей от меня: это ничего! – прибавил он быстро.
Лучник ушел. За ним медленно выходило войско. Володыевский сел на коня и следил за выступлением войска. Замок пустел мало-помалу, но медленно: развалины и обломки мешали выступлению.
Кетлинг подошел к маленькому рыцарю.
– Я иду, – сказал он, стиснув зубы.
– Иди, но повремени немного, пока войско не уйдет… Иди…
Тут они обнялись и замерли в объятиях на некоторое время. Глаза у обоих блестели необыкновенным светом… Кетлинг бросился по направлению к пороховым погребам…
Володыевский снял с головы шлем, с минуту поглядывал на развалины, на то место, где имя его покрылось такой славой, на груды камней, на трупы, на обломки стен, на вал, на орудия, затем поднял глаза к небу и стал молиться.
Его последние слова были:
– Дай ей, Господи, силу перенести и это, дай ей спокойствие.
Увы! Кетлинг слишком поторопился, не дождавшись даже выхода войск.
Заколебались бастионы, страшный гром потряс воздух: стены, башни, лошади, пушки, люди, живые и умершие, глыбы земли, все это, подхваченное взрывом, перемешалось, сбилось, словно в один страшный заряд, и взлетело на воздух.
* * *Так погиб Володыевский – Гектор каменецкий, первый рыцарь Речи Посполитой.
* * *В Станиславове, посередине костела, стоял высокий катафалк, окруженный множеством свечей, а на катафалке в двух гробах, оловянном и деревянном, лежал пан Володыевский. Гроб уже был заколочен, близился момент погребения. По желанию вдовы его должны были похоронить в Хрептиеве, но так как вся Подолия была теперь во власти турок, то временно приходилось похоронить его в Станиславове, ибо в этот город были отосланы под турецким конвоем все каменецкие «выходцы» и переданы в распоряжение гетманского войска.
Звонили во все колокола. Костел был переполнен народом, шляхтой и воинами, которые в последний раз хотели взглянуть на гроб «Каменецкого Гектора», первого кавалера Речи Посполитой. Были слухи, что сам гетман должен приехать на похороны, но так как его все еще не было, и каждую минуту могли подойти татарские чамбулы, то было решено не откладывать печальной церемонии.
Старые солдаты, друзья и подчиненные покойного окружили катафалк. Были здесь пан Мушальский, пан Мотовило, пан Снитко, пан Громыка, пан Ненашинец, пан Нововейский и многие другие, прежние офицеры станицы.
По странной случайности здесь были все те, которые когда-то проводили вместе вечера в Хрептиеве; все они остались живы в этой войне и только тот, кто был их вождем, кто служил им примером, этот рыцарь добрый и справедливый, страшный для врагов и кроткий со своими, только он, фехтовальщик из фехтовальщиков, человек голубиной кротости, лежал здесь высоко, окруженный свечами, лежал под крыльями славы, но в тишине смерти.
Закаленные в долгих войнах сердца солдат сжимались от жалости при виде этого зрелища; желтое пламя свечей, отражаясь в слезах, плывших из глаз воинов, освещало их строгие, скорбные лица. Посреди них, ничком на каменном полу церкви лежала Бася и рядом с нею старый, одряхлевший, убитый горем, трясущийся пан Заглоба. Она пришла сюда пешком из Каменца, следуя за дрогами, на которых везли дорогой гроб.
Теперь настала минута предать этот гроб земле. Всю дорогу она шла, ничего не сознавая, как будто не от мира сего, и теперь у этого катафалка она бессмысленно повторяла: «Это ничего», повторяла потому, что это ей велел передать любимый ею человек, потому что это были его последние слова; но эти слова были только пустым звуком, лишенным всякого содержания и правды. Нет, это было не «ничего» – это было горе, мрак, отчаяние, смерть, это было непоправимое несчастье, разбитая жизнь и страшное сознание, что для нее нет уже милосердия, нет надежды, а есть только пустота, всегда пустота, которую сможет заполнить один лишь Бог, когда ниспошлет ей смерть.
Колокола звонили. У главного алтаря кончилась обедня. Наконец раздался высокий голос ксендза: «В блаженном Успении вечный покой». Бася вздрогнула, и в ее голове, лишенной всякого сознания, вдруг промелькнула мысль: «Уже, уже! Сейчас его отнимут у меня!»
Но это не был еще конец церемонии. Рыцари приготовились к речам, которые должны были быть произнесены во время опускания гроба в могилу. Между тем на амвон взошел ксендз Каминский, тот самый, который раньше часто бывал в Хрептиеве и который во время болезни Баси приготовлял ее к смерти.
В костеле народ стал откашливаться, как это всегда бывает перед началом проповеди, потом все утихли, и глаза всех устремились на амвон.
Вдруг с амвона раздался барабанный бой.
Слушатели изумились. Ксендз Каминский забил тревогу; вдруг оборвал, и водворилась тишина. Опять раздался треск барабана, и вдруг ксендз Каминский швырнул палочки на пол, поднял обе руки вверх и воскликнул:
– Пан полковник Володыевский!
Ему ответил сдавленный крик Баси. В костеле стало просто страшно.
Пан Заглоба встал и с помощью пана Мушальского вынес бесчувственную Басю из костела. А ксендз продолжал:
– Ради бога, пан Володыевский! Бьют тревогу, война, неприятель на границе! А ты не вскакиваешь? Не хватаешься за саблю, не садишься на коня? Что сделалось с тобой, солдат? Разве ты забыл свою прежнюю доблесть, что оставляешь нас одних в горе и тревоге?
Переполнились горем сердца рыцарей, и в церкви послышались громкие рыдания и стоны, и повторялись они каждый раз, когда ксендз начинал прославлять Володыевского, его доблести, его любовь к отечеству, его мужество. И проповедник увлекся собственными словами. Он побледнел, чело его покрылось потом, голос дрожал. Его охватила жалость к маленькому рыцарю, ему стало жаль Каменца, жаль погубленной исповедниками полумесяца Речи Посполитой, и он закончил свое слово такой молитвой:
– Твои храмы, Господи, будут обращены в мечети, и там, где мы читали твое святое Евангелие, будут звучать слова Корана. Ты поверг нас в бездну горя, отвратил лицо свое от нас и предал нас во власть нечестивых турок. Неисповедимы пути твои, но кто теперь, о, Господи, окажет врагу сопротивление? Какие войска защитят границы? Ты, перед коим ничто не сокрыто, ты знаешь, что лучше нашей конницы нет в мире войска. И вот ты, о, Господи, отнимаешь у нас таких защитников, которые могли бы защитить все христианство, прославляющее твое имя! Отче, Всеблагий! Не покидай нас! Окажи милосердие. Пошли нам защитника, пошли того, кто поразит нас, пусть ободрит нас, павших духом. Пошли его, о, Господи!
В эту минуту у входа в костел поднялся шум, и вошел пан гетман Собеский. Глаза всех устремились на него, а он, звеня шпорами, шел к катафалку, великолепный, величественный, с лицом римского Цезаря…
Его сопровождала толпа закованных в сталь рыцарей.
– Salvator![28] – воскликнул в пророческом увлечении ксендз.
А он, преклонив колени перед катафалком, начал молиться за упокой души Володыевского.
Эпилог
Год спустя после падения Каменца, когда утихли на время несогласия партий, Речь Посполитая выступила, наконец, на защиту своих границ на востоке.
Она выступила активно. Великий гетман Собеский пошел с тридцать одной тысячей войска, конницы и пехоты, в султанскую землю, под Хотим, чтобы напасть на несравненно более многочисленное войско Гуссейна-паши, стоявшего под хотимским замком.
Имя пана Собеского было уже грозным для неприятеля. В течение одного года, после падения Каменца, он, имея в своем распоряжении только несколько тысяч войска, так потрепал бесчисленную партию падишаха, уничтожил столько чамбулов, столько народу освободил из плена, что старый Гуссейн – хотя у него было больше войска, хотя он стоял во главе превосходных полков и получил подкрепление от Каплана-паши – не решился сражаться с Собеским в открытом поле и предпочел защищаться в укрепленном лагере.
Гетман окружил лагерь со всех сторон войском, и всем уже было известно, что он хочет взять его приступом. Некоторые, правда, считали неслыханным в истории войн, чтобы можно было с меньшими силами идти против больших, да еще вдобавок защищенных валами и рвами. У Гуссейна было сто двадцать орудий, а у поляков всего пятьдесят. Турецкая пехота численностью своей в три раза превосходила польскую пехоту; одних янычар, столь страшных в рукопашном бою, в стенах крепости было более восемнадцати тысяч.
Но гетман верил в свою звезду, в чары своего имени и в войско, которым он командовал. С ним были опытные и закаленные в бою полки, люди, привыкшие с детских лет к войне, совершившие много походов. Многие из них помнили еще страшные времена Хмельницкого, Збараж и Берестечко; многие из них участвовали в войнах со шведами, пруссаками, русскими, вели междоусобные войны, участвовали в войне с венграми. Были здесь отряды, состоявшие из одних ветеранов, были и солдаты из станиц, для которых война стала тем, чем для других бывает мир: привычным порядком и образом жизни. Под началом воеводы русского было пятнадцать гусарских полков; с конницей этой, по мнению иностранцев, не могла равняться ни одна конница в мире, были тут и полки легкой кавалерии, те самые, во главе которых, после падения Каменца, гетман нанес столько поражений рассеянным татарским чамбулам; была здесь и полевая пехота, которая бросалась на янычар, зачастую даже не стреляя и пуская в дело только ружейные приклады.
Этих людей воспитывала война, как воспитала она в Речи Посполитой целые поколения; но до сих пор они были всюду рассеяны или находились на службе у враждующих партий. Теперь, когда внутри государства водворилось спокойствие, все они соединились под одним знаменем, и гетман надеялся с ними победить могущественного Гуссейна и не менее могущественного Каплана. Эти люди шли под командой опытных полководцев, имена которых неоднократно упоминались в истории тогдашних войн, с их переменчивой судьбой – победами и поражениями.
Сам гетман, как солнце, стоял во главе всех и своей волей направлял эти тысячи. Но кто были другие начальники, которые должны были под Хотимским лагерем покрыть свое имя бессмертной славой? Тут были два литовских гетмана: великий гетман Паи и польный – Михаил Казимир Радзивилл.
Эти последние за несколько дней перед битвой соединились с коронным войском, а теперь по приказанию Собеского расположились на холмах, соединявших Хотим с Жванцем. Они имели в своем распоряжении двенадцать тысяч войска, в том числе две тысячи отборной пехоты. К югу от Днестра стояли союзные валахские полки, которые накануне битвы ушли из турецкого лагеря, чтобы соединиться с христианским войском. Рядом с валахами расположился со своей артиллерией Контский, который не знал соперников в искусстве осаждать крепости, вести земляные работы и направлять артиллерийский огонь. Этому искусству он научился за границей и вскоре превзошел в нем самих иностранцев. За Контским стояла русская и мазурская пехота Корицкого; дальше – гетман польный Дмитрий Вишневецкий, двоюродный брат больного короля. Он командовал легкой конницей. Рядом с ним расположился с собственным войском пехоты и конницы пан Андрей Потоцкий, бывший противник гетмана, теперь преклонявшийся перед ним. За ним и за Корыцким расположились, под началом Яна Яблоновского, воеводы русского, пятнадцать полков гусар, в блестящих панцирях, в шлемах, бросающих грозные тени на лица, с крыльями за спиной. Целый лес копий поднимался над ними, но сами они стояли спокойно, уверенные в своей несокрушимой силе и в том, что они решат участь сражения. Из менее известных, хотя и храбрых воинов, был пан каштелян подлясский Лужецкий, брат которого был убит турками в Бодзанове, за что он поклялся им в вечной мести; был пан Стефан Чарнецкий, племянник великого Стефана, писарь польный коронный. Будучи сторонником короля, он стоял во время осады Каменца во главе шляхты под Голембем и чуть, было, не возбудил междоусобной войны; теперь он хотел отличиться на поле сражения. Был пан Габриель Сильницкий, вся жизнь которого прошла в войнах и который теперь был стар и сед; были тут воеводы и каштеляны, славные участники предыдущих войн, которые и теперь еще жаждали славы. А из рыцарей, не носивших высокого звания сенатора, выделялся пан Скшетуский, знаменитый збаражец, воин, который служил примером для всех рыцарей; он принимал участие во всех войнах, какие только вела Речь Посполитая за последние тридцать лет. Седина покрывала уже его голову, но зато его окружали шесть сыновей, которые силой своей могли тягаться с медведем. Из них старшие были уже знакомы с войной, а двое младших шли в первый поход и потому так жаждати войны, что отцу приходилось неоднократно сдерживать их пыл.
С большим уважением смотрели рыцари на отца и сыновей, но еще большее удивление вызывал пан Яроцкий, который, будучи слепым на оба глаза, по примеру короля чешского Яна, все же отправился в поход.
Ни детей, ни родственников у него не было, слуги вели его под руки с обеих сторон, – и у него была одна только надежда: сражаясь, сложить голову, принести пользу отчизне и прославить свое имя.
Там же был пан Ржечицкий, отец и брат которого погибли в этом году. Там же был пан Мотовило, который, только что освободившись из татарской неволи, отправился в поход вместе с паном Мыслишевским. Первый хотел отомстить за неволю, а второй за оскорбление, нанесенное ему в Каменце, когда, вопреки договору, невзирая на его шляхетское достоинство, янычары избили его палками. Были и давнишние рыцари из днепровских станиц, – одичавший пан Рущиц и несравненный стрелок из лука пан Мушальский. Он уцелел под Каменцем благодаря тому, что маленький рыцарь послал его к своей жене с поручением; были и пан Снитко, и пан Ненашинец, и пан Громыка, и самый несчастный из всех, молодой пан Нововейский. Даже друзья и родственники желали ему смерти, так как для него уже не было утешения. После своего выздоровления он целый год уничтожал чамбулы, особенно яростно преследуя липков.
После того как пан Мотовило был разбит Крычинским, он в погоне за Крычинским изъездил всю Подолию, не давая ему ни минуты отдыха, всюду его преследуя. В это время в его руки попал Адурович, – он велел содрать с него кожу; для пленных не знал пощады, но в горе не нашел утешения. За месяц перед этой битвой он поступил в гусарский полк воеводы русского.
Во главе таких рыцарей подошел пан Собеский к Хотиму. Все солдаты жаждали отомстить врагам не только за обиды Речи Посполитой, но и за свои личные обиды: почти каждый из них в этих постоянных стычках с язычниками лишился кого-нибудь из близких и носил в своем сердце воспоминание о страшных несчастьях, постигших его на этой земле, пропитанной кровью. Великий гетман, видя, что ярость в сердцах его солдат не уступает ярости львицы, у которой охотники отняли львят, спешил вступить в бой.
Война началась 29 ноября 1674 года. Полчища турок с утра выступили из-за вала; польские рыцари кинулись к ним навстречу. Люди погибали с обеих сторон, но потери турок были значительнее. Все же как у поляков, так и у турок погибло сравнительно немного знатных воинов. В самом начале сражения турецкий спаг пронзил кривой саблей пана Мая, но за то младший Скшетуский одним взмахом почти отрубил голову этому спагу, за что заслужил похвалу отца и стяжал себе славу.
Вначале сражались только кучками или поодиночке, вступая в рукопашный бой друг с другом, и все с большим воодушевлением. Между тем отряды войска расположились вокруг турецкого лагеря, кому где назначил гетман. Сам он, стоя за пехотой Корыцкого, на старой Ясской дороге, мог объять взором весь огромный лагерь Гуссейна, и на лице его было то невозмутимое спокойствие, какое бывает у знатоков своего дела, перед тем как они приступают к работе. Время от времени посылал он ординарцев с приказаниями и задумчивыми глазами смотрел, как сражались наездники. Под вечер приехал к нему воевода русский.