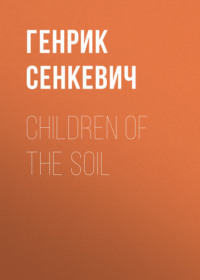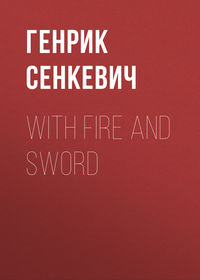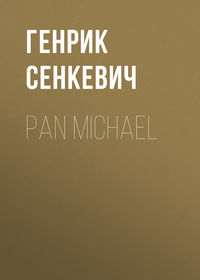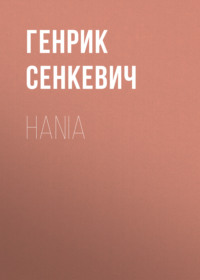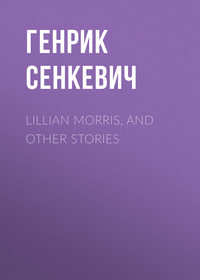Огнем и мечом
– И там остановились. О чем совещались начальники, не знаю; за все это они ответят на Страшном суде, ибо ударь они сразу на Хмельницкого, разбили бы его, как бог свят, несмотря на весь беспорядок, неумелость, раздоры и отсутствие полководца. Там уж поднялась между чернью паника и поговаривали о том, как бы выдать Хмельницкого, да и он сам задумывал бежать. Князь ездил от палатки к палатке, просил, умолял, грозил: «Ударим, пока не подошли татары, ударим!» Он рвал на себе волосы, а те только смотрели друг на друга – и ничего, ничего! И все пили да рядили. Пошли слухи, что идут татары, хан с двухсоттысячной конницей, а они все совещались. Князь заперся в своей палатке, ибо на него никто не обращал внимания. В войске начали говорить, что канцлер запретил князю начинать битву и что ведутся переговоры. Поднялся еще больший беспорядок. Наконец пришли татары; но в первый день нам была удача; с ними имели стычку князь, Осинский и Лащ; прогнали орду с поля, значительно истребив ее, а потом… Голос Вершула прервался.
– А потом? – спросил Заглоба.
– Наступила ночь: страшная, непонятная. Я, помню, стоял со своими людьми на страже у реки и вдруг слышу: в казацком лагере палят из пушек, точно салютуют, и слышатся крики. Тогда я вспомнил – говорили вчера в лагере, будто в поле вышли не все татарские силы, а только часть: Тугай-бей со своими. Я подумал, что если там салютуют, значит, пришел сам хан. Но, вижу, в нашем лагере паника. Я побежал с несколькими людьми. «Что случилось?» В ответ мне кричат: «Командиры бежали». Я к князю Доминику – его нет! Я к подчашему – нет! К коронному хорунжему – нет! Господи! Солдаты бегают по площади; шум, крик, суматоха: «Где командиры, где командиры?» Другие кричат: «На коней! На коней!» Третьи: «Измена! Измена! Спасайтесь, братья!» Все поднимают руки кверху, лица обезумели, глаза вытаращены, толпятся, душат друг друга, садятся на лошадей и летят куда глаза глядят, без оружия. Побросали шлемы, панцири, оружие, палатки. Вдруг во главе гусар, в серебряных латах, появился князь, вокруг него несли шесть факелов, а он, стоя на стременах, кричал: «Панове, я здесь, я остался, ко мне!» Какое уж там! Его не слышат, не видят, летят на гусар, сбивают их, сносят людей, лошадей… Мы едва спасли самого князя. Потом, по затоптанным кострам, в темноте, словно прорвавшийся поток, все войско несется в диком страхе, рассеивается, бежит и гибнет… Нет войска, нет вождей, нет Речи Посполитой, есть только несмываемый позор и казацкая нога у нас на шее…
И Вершул начал стенать и дергать коня, его охватило безграничное отчаяние, которое сообщилось и другим. Они ехали ночью, в темноте и под дождем, как бы обезумевшие.
Ехали долго. Первым начал Заглоба:
– Без битвы, о шельмы! Ах вы такие-сякие! Помните, как они хорохорились в Збараже? Как они собирались съесть Хмельницкого без соли и перцу? О шельмы!
– Куда им! – крикнул Вершул. – Они бежали после первой победы, одержанной над татарами и над чернью, после битвы, в которой даже простые ополченцы дрались, как львы.
– В этом перст Божий, – сказал Скшетуский, – но в этом и какая-то тайна, которая должна выясниться…
– Бывает, что войска бегут, но ведь тут полководцы первые бросили лагерь, точно хотели облегчить неприятелю победу и отдать ему все войско на избиение, – сказал Володыевский.
– Да, да! – воскликнул Вершул. – Говорят, что они именно нарочно сделали это.
– Нарочно?! Клянусь Богом, это невозможно!
– Говорят, нарочно. А зачем? Кто поймет, кто угадает?
– Чтоб их, проклятых, в гробу передавило! Чтоб весь их род погиб, а после него остался один только позор! – вскричал Заглоба.
– Аминь! – сказал Скшетуский.
– Аминь! – повторили Володыевский и Подбипента.
– Теперь только один человек может еще спасти отчизну, если ему отдадут булаву и уцелевшие силы Речи Посполитой; один он, потому что о другом ни шляхта, ни войска не захотят и слушать.
– Князь? – спросил Скшетуский.
– Да, он.
– Пойдем к нему и вместе с ним погибнем! Виват князь Еремия Вишневецкий! – воскликнул Заглоба.
– Виват! – повторили за ним несколько нетвердых голосов.
Но возглас этот тотчас замер: под ногами расступалась земля, небо, казалось, давило головы, и теперь было не до кличей и приветствий. Начало светать. Вдали показались стены Тарнополя.
IX
Первые беглецы из-под Пилавец добрели до Львова 26 сентября, на рассвете, и не успели еще открыть городских ворот, как страшная весть с быстротой молнии облетела весь город, возбуждая в одних недоверие, в других – страх, в третьих – отчаянное желание защищаться. Пан Скшетуский со своим отрядом прибыл двумя днями позже, когда весь город был уже переполнен беглецами, солдатами, шляхтой и вооруженными мещанами. Подумывали уже об обороне, так как с минуты на минуту могли ожидать нападения татар; но никто еще не знал, кто станет во главе войска и как возьмется за дело; всюду поэтому царил беспорядок и паника. Некоторые совсем покидали город, увозя свои семьи, а окрестные жители, наоборот, искали в нем убежища. Уезжавшие и приезжавшие переполняли улицы и подымали шум и споры; всюду было полно возов, узлов, ящиков, тюков, лошадей и солдат разных полков; на лицах – неуверенность, лихорадочное ожидание, отчаяние и решимость. То и дело вспыхивала, словно пожар, паника и раздавались крики: «Едут! Едут!» И толпа, как волна, слепо мчалась куда глаза глядят, пораженная безумной тревогой, пока не оказывалось, что пришел какой-нибудь новый отряд беглецов. А отрядов этих собиралось все больше и больше. Но какой жалкий вид имели эти солдаты, которые еще так недавно, в золоте и перьях, шли в поход против холопов с песнями на устах и гордостью в глазах! Оборванные, голодные, исхудалые, в грязи, на тощих лошадях, со стыдом на лице, они скорее были похожи на нищих и могли возбуждать только сострадание, если бы кто-нибудь мог думать о жалости и сострадании в этом городе, стены которого каждую минуту могли пасть под напором врага. Каждый из этих опозоренных рыцарей утешал себя лишь тем, что стыд и позор этот был в то же самое время уделом тысячи сотоварищей. Они укрывались лишь первое время, а потом, когда пришли немного в себя, стали роптать, жаловаться, грабить, шатались по улицам, пьянствовали по корчмам и шинкам и еще больше увеличивали беспорядок и тревогу.
Каждый твердил: «Татары уже тут, тут!» Одни уверяли, что видели за собой пожары, другие, что им приходилось отбиваться от татарских отрядов. Толпа, окружавшая солдат, напряженно слушала эти рассказы. Крыши костелов и башен были усеяны тысячами любопытных; колокола били набат, а женщины и дети толпились в костелах, где среди мерцающих свечей сияла чаша со Святыми Дарами.
Пан Скшетуский со своим отрядом медленно пробивался от Галицких ворот сквозь сплошную стену лошадей, возов, солдат, мещанских цехов, стоявших под своими знаменами, и сквозь толпу народа, который с удивлением смотрел на этот отряд, входящий в город не врассыпную, а в стройном боевом порядке. Раздались крики, что это подкрепление, и толпой снова овладела ни на чем не основанная радость; она начала тесниться к Скшетускому, хватать его за стремена и целовать их. Сбежались и солдаты и крикнули: «Это воины Вишневецкого! Да здравствует князь Еремия!» Поднялась такая давка, что лошади еле-еле могли передвигать ноги.
Наконец навстречу показался отряд драгун с офицером во главе. Солдаты разгоняли толпу, а офицер кричал: «Дорогу, дорогу!» и бил саблей тех, кто не спешил уступить дорогу.
Скшетуский узнал Кушеля.
Молодой офицер радостно приветствовал знакомых.
– Что за времена! Что за времена! – проговорил он.
– Где князь? – спросил Скшетуский.
– Он совсем бы извелся от тревоги, если бы вы не приехали. Он с нетерпением ждет вас и ваших людей; а теперь он в костеле у бернардинцев[61], меня послали в город, чтобы водворить в нем порядок, но этим уже занялся Гросвайер. Я поеду с вами в костел. Там совет.
– В костеле?
– Да. Хотят предложить князю булаву, солдаты объявили, что под начальством другого полководца они не станут защищать город.
– Едем! Я тоже спешу к князю.
Соединенный отряд двинулся. По пути пан Скшетуский расспрашивал обо всем, что творилось во Львове, и решено ли его защищать.
– Вот об этом-то теперь там и толкуют, – сказал пан Кушель. – Мещане хотят защищаться. Что за времена! Люди низшего происхождения выказывают больше благородства и мужества, чем шляхта и солдаты.
– А командующие? Что с ними? Не в городе ли они и не будут ли мешать князю?
– Только бы он сам согласился! Было время, когда надо было вручить ему булаву, а теперь поздно! Командующие не смеют показаться на глаза. Князь Доминик слегка кутнул в архиепископском дворце и сейчас же убрался. И хорошо сделал. Ты не поверишь, как ожесточены против него солдаты. Его уже нет, а они все еще кричат: «Давай его сюда, мы его изрубим». И если бы он не уехал, не миновать бы беды. Подчаший коронный первым прибыл сюда и начал клеветать на князя, а теперь воды в рот набрал, потому что солдаты вооружены и против него. Его в глаза укоряют во всем, а он только слезы глотает. Ужас просто, что здесь происходит! Что за времена! Благодари Бога, что ты не был под Пилавцами и что тебе не пришлось бежать. Просто чудо, как мы, бывшие там, не сошли с ума!
– А наша дивизия?
– Ее уж нет, почти никого не осталось. Вурцеля нет, Махницкого и За-цвилиховского тоже. Вурцель и Махницкий не были под Пилавцами, они были в Константинове. Их оставил там этот Вельзевул – князь Доминик, чтобы ослабить нашего князя. Бог весть, ушли ли они или окружены неприятелем. Старик Зацвилиховский тоже точно камень в воду канул. Дай бог, чтобы он не погиб!
– А много здесь собралось солдат?
– Порядочно! Но что в них толку? Один только князь и мог бы справиться с ними, если бы согласился принять булаву; кроме того, они никого не слушаются. Князь страшно беспокоился о тебе и твоих солдатах. Ведь это единственный уцелевший полк! Мы уж тут оплакивали тебя.
– Ныне только и счастливы те, кого оплакивают:
Некоторое время они ехали молча, присматриваясь к толпе, прислушиваясь к возгласам и крикам: «Татары! Татары!» В одном месте их глазам представилось страшное зрелище: толпа разрывала на куски человека, которого заподозрили в шпионстве. Колокола звонили не переставая.
– Скоро придет сюда орда? – спросил Заглоба.
– Черт ее знает! Может, еще и сегодня. Этот город долго не продержится. Хмельницкий ведет двести тысяч казаков, не считая татар.
– Капут! – ответил шляхтич. – Нам надо ехать как можно скорей дальше. И на что только мы одержали столько побед?
– Над кем?
– Над Кривоносом, над Богуном, да и черт знает над кем еще!
– Вот как! – сказал пан Кушель и, обращаясь к Скшетускому, тихо спросил: – А тебя, Ян, ничем Господь не утешил? Не нашел, кого искал? Не узнал ли по крайней мере чего?
– Теперь не время думать об этом! – воскликнул Скшетуский. – Что значат мои личные дела в сравнении с тем, что случилось? Все суета сует, и все кончается смертью!
– Мне тоже кажется, что мир скоро погибнет! – ответил Кушель.
Они уже доехали до костела бернардинцев, залитого внутри светом. Около костела стояли несметные толпы народа, но войти в него не могли, так как вход загородил ряд солдат с алебардами, пропускавший только знатнейших граждан и военных старшин.
Скшетуский велел своим людям образовать второй ряд.
– Войдем! – сказал Кушель. – Тут, в костеле, собралось теперь половина Речи Посполитой.
Они вошли. Кушель не преувеличил. Все, что было выдающегося в войске и в городе, все собралось на это совещание; тут были и воеводы, и каштеляны, и полковники, и ротмистры, и офицеры иностранных полков, и духовенство, и такая масса шляхты, что костел еле мог вместить всех; были и низшие военные чины и несколько городских советников во главе с Гросвайером, который был представителем мещан. Был здесь и князь, и коронный подчаший, один из главнокомандующих, и киевский воевода, и стобницкий староста, и Вессель, и Арцишевский, и литовский обозный – Осинский; все они сидели перед главным алтарем так, чтобы толпа могла хорошо видеть их. Совещание шло быстро, горячо, как всегда в таких случаях; говорившие вставали на скамьи и заклинали старшин не отдавать город в руки неприятеля без сопротивления. Если бы даже пришлось погибнуть, то все же город задержит неприятеля, а Речь Посполитая тем временем соберется с силами. Чего недостает для защиты города? Есть стены, есть войско, есть готовность к борьбе – нет только вождя. Во время этих речей в толпе начался глухой рокот, который постепенно переходил в громкие возгласы; собранием овладевало одушевление. «Погибнем! Сгинем охотно! Смоем пилавецкий позор и защитим отчизну!» – раздавались крики. Застучали сабли, лезвия которых блестели при огне свечей. Другие кричали: «Тише! Надо толком совещаться».
– Защищаться или не защищаться?
– Защищаться, защищаться! – кричало собрание, и эхо под сводами повторяло за ними: «защищаться».
– Кому быть вождем?
– Князю Еремии! Он вождь! Он герой! Пусть он защищает город и Речь Посполитую! Отдадим ему булаву! Да здравствует князь Еремия!
Из тысячи грудей вырвался такой громкий крик, что стены костела дрогнули и стекла зазвенели в окнах:
– Да здравствует князь Еремия! Да здравствует и побеждает!
Сверкнули тысячи сабель, – взоры всех устремились на князя, – он встал спокойный, но нахмуренный. Все тотчас стихло.
– Мосци-панове! – сказал князь звучным голосом, который был явственно слышен. – Когда кимвры и тевтоны напали на Римскую республику, никто не хотел принять консульской власти, пока ее не принял Марий. Но Марий имел право принять ее, ибо не было вождей, назначенных сенатом. Я тоже в минуту гибели не отказался бы принять власть и отдать жизнь на служение отчизне, но принять булавы я не могу, ибо, приняв ее, я оскорбил бы отечество, сенат и верховную власть, быть же самозваным вождем я не хочу. Между нами есть тот, кому Речь Посполитая вверила булаву, – коронный подчаший…
Князь не мог продолжать, – едва он произнес имя подчашего, как поднялись страшные крики и бряцание сабель; толпа колыхнулась и вспыхнула, как порох, в который попала искра. «Долой его! Погибель ему!» – раздавалось в толпе все громче и громче. Подчаший вскочил с места, бледный, с каплями холодного пота на лбу, а грозные фигуры приближались к креслам, к алтарю, и даже слышалось зловещее: «Давай его сюда!» Князь, видя, к чему клонится дело, встал и поднял правую руку.
Толпа остановилась, думая, что он будет продолжать; все мгновенно утихло.
Но князь только хотел сдержать бурю, остановить толпу и не допустить пролития крови в костеле; увидев, что самая опасная минута миновала, он снова опустился на место.
А через два кресла, отделенный от него только воеводой киевским, сидел несчастный подчаший: его седая голова склонилась на грудь, руки опустились, а из уст вырвался крик, прерываемый рыданиями:
– Боже! За грехи мои с покорностью принимаю этот крест!
Старец мог возбудить сострадание в самом безжалостном сердце, но толпа жалости не знает. Снова поднялись крики; вдруг воевода киевский дал знак, что хочет говорить.
Он был товарищем Еремии в победах, и его охотно слушали.
Он обратился к князю, заклиная его в самых трогательных выражениях не отказываться от булавы и не колебаться перед спасением отчизны. Речь Посполитая гибнет, и нельзя придерживаться буквы закона, – ее должен спасать не номинальный вождь, а тот, кто действительно способен спасти ее.
– Бери же булаву, вождь непобедимый! Бери и спасай, – не только город, но всю Речь Посполитую! Я, старик, ее устами умоляю тебя, а со мной все сословия, мужи, жены и дети! Спасай, спасай!
И случилось нечто, что тронуло все сердца: к алтарю подошла женщина в трауре и, бросив к ногам князя золотые уборы и драгоценности, опустилась перед ним на колени и, громко рыдая, сказала:
– Мы отдаем в твои руки наше имущество, нашу жизнь!.. Спаси нас! Мы гибнем!
Сенаторы, воины, а за ними вся толпа разразились громкими рыданиями, и во всем костеле раздалось единогласное:
– Спаси!
Князь закрыл глаза руками, и, когда отнял их, на них блестели слезы, но он все еще колебался.
Тогда поднялся коронный подчаший.
– Я стар, – сказал он, – несчастен и подавлен. Я имею право отказаться от непосильного бремени и передать его более достойному и молодому. И вот пред распятием Христа и в присутствии всего рыцарства я отдаю тебе булаву – бери ее!
И он протянул ее Вишневецкому. Наступила минута такого молчания, что слышно было жужжание мух; наконец прозвучал торжественно голос Еремии:
– За грехи мои – принимаю!
Собранием овладела безумная радость. Толпа, ломая скамьи, теснилась к Вишневецкому, обнимая его ноги и бросая к ним драгоценности и золото. Весть эта как молния облетела весь город. Солдаты от радости сходили с ума и кричали, что хотят идти на Хмельницкого, на татар, на султана. Горожане думали уже не о сдаче города, а о защите его до последней капли крови. Армяне добровольно несли деньги в ратушу, евреи радостно кричали в своих синагогах. Пушки с валов возвестили радостную новость; на улицах стреляли из самопалов, пищалей и пистолетов. Крики «виват» раздавались всю ночь. Тот, кто не знал, в чем дело, мог подумать, что город празднует какое-нибудь торжество.
А между тем с минуты на минуту могло начать осаду города трехсоттысячное неприятельское войско, – армия большая, чем могли бы выставить немецкий государь или французский король, и более дикая, чем полчища Тамерлана.
X
Неделю спустя, утром 6 октября, по Львову разнеслась страшная и нежданная весть: князь Еремия, забрав большую часть войска, покинул город тайком и ушел неизвестно куда.
Перед дворцом архиепископа собралась толпа народа; сначала никто не хотел верить. Солдаты уверяли, что если князь уехал, то, конечно, чтобы во главе большого отряда осмотреть окрестности. «Оказалось, – говорили в городе, – что беглецы распространяли фальшивые слухи, предсказывая скорый приход Хмельницкого и татар. С 26 сентября прошло уже дней десять, а неприятеля еще не было. Князь, вероятно, хотел собственными глазами убедиться в опасности и, наверно, вернется, проверив слухи. К тому же он оставил несколько полков и все уже было готово к обороне».
Так и было. Все распоряжения были сделаны, места назначены, на валах поставлены пушки. Вечером прибыл ротмистр Цихоцкий с полусотней драгун. Любопытные тотчас окружили его, но он не захотел разговаривать с толпою и направился прямо к генералу Арцишевскому. Оба они вызвали к себе Гросвайера и после совещания с ним отправились в ратушу. Там Цихоцкий объявил испуганным советникам, что князь уехал и не вернется.
В первую минуту у всех опустились руки, и кто-то даже осмелился произнести слово «изменник». Тогда Арцишевский, старый воин, прославившийся военными подвигами на службе в Голландии, встал и обратился к офицерам и советникам со следующей речью:
– Я слышал дерзкое слово, которого никто не смеет произносить, ибо ничто не может оправдать его, даже отчаяние. Князь уехал и не вернется – это правда! Но какое вы имеете право требовать от вождя, в лице которого надеялись видеть спасителя отчизны, чтобы этот вождь защищал только ваш город? Что было бы, если бы неприятель окружил здесь последнее войско Речи Посполитой? Здесь нет ни припасов, ни оружия для такого многочисленного войска. Я вам говорю, а моей опытности вы можете верить, что чем больше войска заперлось бы в этих стенах, тем короче была бы оборона, ибо голод одолел бы нас раньше, чем неприятель. Для Хмельницкого важнее князь, чем город, и когда он узнает, что князя в городе нет и что он собирает новые войска, то станет сговорчивее и скорее уступит. Вы ропщете теперь, а я говорю вам, что князь, оставив город, спас вас и детей ваших. Держитесь дружно и защищайтесь, и если вы хотя немного задержите наступательное движение неприятеля, то окажете этим огромную услугу Речи Посполитой: князь тем временем соберет новые силы, осмотрит другие крепости, разбудит дремлющую Речь Посполитую и поспешит к вам на помощь. Он выбрал единственный путь к спасению, ибо здесь он пал бы изнуренный голодом вместе с войском, а тогда некому было бы уже остановить неприятеля, который пошел бы на Краков и Варшаву и захватил бы всю нашу отчизну, не встречая нигде сопротивления. Поэтому, вместо того чтобы роптать, спешите на валы защищать себя, своих детей, город и отчизну…
– На валы! На валы! – повторило несколько смелых голосов. А Гросвайер, человек смелый и энергичный, сказал:
– Меня утешает ваша решимость, и знайте, что князь не уехал бы, не обдумав защиты. Каждый знает, что ему надо делать. Случилось то, что должно было случиться. Защита в моих руках, и я буду защищаться до последней капли крови.
Сердца павших духом снова оживились надеждой; Цихоцкий, видя это, сказал:
– Его светлость князь прислал меня объявить, что неприятель близко. Поручик Скшетуский столкнулся с двухтысячным чамбулом, который он разбил. Пленные говорят, что за ними идут огромные полчища.
Известие это произвело огромное впечатление. Наступило минутное молчание; сердца забились сильнее.
– На валы! – воскликнул Гросвайер.
– На валы! На валы! – повторили присутствующие офицеры и горожане.
Вдруг под окнами раздались крики; послышался говор тысячи голосов, слившийся в сплошной неопределенный гул, похожий на шум морских волн. Двери с треском распахнулись, и в залу вбежало несколько горожан; прежде чем совещавшиеся успели спросить их, в чем дело, раздались крики:
– На небе зарево! Зарево!
– На валы! – еще раз повторил Гросвайер. – На валы!
Зала опустела. Через несколько минут пушечные выстрелы, потрясая городские стены, возвестили жителям города, предместья и окрестных деревень, что неприятель подходит.
На востоке все небо уже побагровело, казалось, к городу приближается огненное море.
Князь между тем шел к Замостью и, разбив по пути чамбул, о котором Цихоцкий говорил горожанам, занялся исправлением и осмотром этой внушительной крепости, которую он вскоре сделал неприступной. Скшетуский вместе с паном Лонгином Подбипентой и частью своего отряда остался в крепости, при Вейгере, старосте валецком, а князь пошел в Варшаву, испросить у сейма средств для набора новых войск, а вместе с тем и принять участие в выборах короля. На этих выборах решалась участь Вишневецкого и всей Речи Посполитой: если бы на престол был избран королевич Карл, то победу одержала бы партия войны, а князю досталось бы главное начальство над всеми военными силами Речи Посполитой, и тогда началась бы борьба с Хмельницким на жизнь и на смерть. Королевич Казимир хотя и был известен своим мужеством и знанием дела, но считался сторонником политики канцлера Оссолинского, следовательно, политики переговоров и уступок. Оба брата не жалели обещаний и старались привлекать к себе сторонников; силы обеих партий были равны, и никто поэтому не мог предвидеть результата выборов. Сторонники канцлера боялись, как бы Вишневецкий, благодаря росту своей славы и любви к нему солдат и шляхты, не склонил умы на сторону Карла; князь именно в силу этих причин хотел лично поддержать своего кандидата. Поэтому-то он и торопился в Варшаву, уверенный, что Замостье надолго задержит силы Хмельницкого и татар. Львов, по всей вероятности, можно было считать спасенным, так как Хмельницкий ни в коем случае не мог тратить много времени на этот город, раз перед ним было более сильное Замостье, которое преграждало ему путь в самое сердце Речи Посполитой. Мысли эти подкрепляли князя и наполняли надеждой его сердце, изнемогавшее при виде бедствий отчизны. Он был уверен, впрочем, что если даже будет избран Казимир, то и тогда война неизбежна и страшный бунт должен быть залит морем крови. Он надеялся, что Речь Посполитая выставит еще раз сильную армию, ибо самые переговоры будут действительны лишь тогда, когда Речь Посполитая сможет опереться на военную силу.
Убаюканный такими мыслями, князь ехал с несколькими полками в сопровождении Заглобы и Володыевского. Заглоба клялся всеми святыми, что добьется избрания королевича Карла, так как умеет говорить со шляхетской братией и знает, как надо обращаться с ней. Володыевский командовал княжеским конвоем. В Сеннице, недалеко от Минска, князя ожидала радостная и вместе с тем неожиданная встреча – он съехался с княгиней Гризельдой, которая для большей безопасности переезжала из Бреста Литовского в Варшаву, надеясь, что туда придет и князь. Они нежно встретились после долгой разлуки. Княгиня, несмотря на то что обладала железной силой воли, была так взволнована, что не смогла успокоиться в течение нескольких часов: бывали такие минуты, что она не надеялась больше видеть князя, а между тем Бог дал ему вернуться, и притом стяжать такую славу, какой никогда и никто из рода Вишневецких не пользовался. Он был теперь великим вождем, надеждой Речи Посполитой. Княгиня, отрываясь каждую минуту от его груди, со слезами глядела на его исхудавшее, почерневшее лицо, на его высокий лоб, изборожденный морщинами забот и трудов, на эти воспаленные от бессонных ночей глаза и заливалась слезами, которым вторил весь ее двор. Княжеская чета понемногу успокоилась и пошла в обширный церковный дом; здесь начались расспросы о друзьях, о придворных и рыцарях, составлявших как бы одну семью и память о которых была неразрывно связана с воспоминаниями о Лубнах. Князь прежде всего успокоил княгиню насчет Скшетуского, сказав, что он потому остался в Замостье, что не хотел в своем горе окунуться в столичный шум и предпочел лечить свои сердечные раны тяжелой военной жизнью. Потом князь представил княгине Заглобу и рассказал о его подвигах,