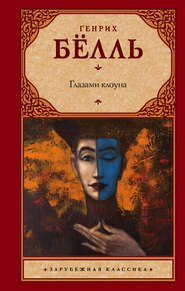По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Глазами клоуна. Бильярд в половине десятого
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Хорошо, а если эти двое дважды и трижды обвенчаны и гражданским и церковным браком, но благодати при этом и в помине нет, значит, брак недействителен?
– Гм-м, – промычал он.
– Слушайте, доктор, вам не трудно вынуть сигару изо рта? Получается, будто мы с вами обсуждаем курс акций. От вашего причмокивания мне становится как-то не по себе.
– Ну, знаете ли! – сказал он, но сигару все же вынул. – И вообще поймите, все, что вы об этом думаете, ваше личное дело. А Мари Деркум думает об этом иначе и поступает, как ей подсказывает совесть. И могу добавить – поступает совершенно правильно.
– Почему же вы, проклятые католики, не можете сказать мне, где она? Вы ее от меня прячете?
– Не валяйте дурака, Шнир, – сказал он. – Мы живем не в Средневековье.
– Очень жаль, что не в Средневековье, – сказал я, – тогда ей разрешили бы остаться моей наложницей и никто не ущемлял бы ее совесть с утра до вечера. Ничего, она еще вернется.
– На вашем месте, Шнир, я не был бы так в этом уверен. Жаль, что вы явно не способны воспринимать метафизические понятия.
– С Мари было все в порядке, пока она заботилась о спасении моей души, но вы ей внушили, что она должна спасать еще и свою душу, и выходит так, что мне, человеку, неспособному воспринимать метафизические понятия, приходится теперь заботиться о спасении души Мари. Если она выйдет замуж за Цюпфнера, она станет настоящей грешницей. Настолько-то я разбираюсь в вашей метафизике – то, что она творит, и есть прелюбодеяние и разврат, а ваш прелат Зоммервильд тут играет роль сводника.
Он все-таки заставил себя рассмеяться, правда, не слишком громогласно:
– Звучит забавно, если иметь в виду, что Гериберт является главой немецкого католицизма, так сказать, по общественной линии, а прелат Зоммервильд, так сказать, по духовной.
– А вы – совесть этого самого католицизма, – сказал я сердито, – и отлично знаете, что я прав.
Он пыхтел в трубку там, на Венусберге, стоя под наименее ценной из трех своих мадонн.
– Вы потрясающе молоды, – сказал он, – можно только позавидовать.
– Бросьте, доктор, – сказал я, – не потрясайтесь и не завидуйте мне, а если Мари ко мне не вернется, я этого вашего милейшего прелата просто пришибу. Да, пришибу, – повторил я, – мне терять нечего.
Он помолчал и опять сунул сигару в рот.
– Знаю, – сказал я, – знаю, что ваша совесть сейчас лихорадочно работает. Если бы я убил Цюпфнера, это вам было бы на руку: он вас не любит, и для вас он слишком правый, а вот Зоммервильд для вас крепкая поддержка перед Римом, где вы – впрочем, по моему скромному мнению, несправедливо – считаетесь леваком.
– Бросьте глупить, Шнир, что это с вами?
– Католики мне действуют на нервы, – сказал я, – они нечестно играют.
– А протестанты? – спросил он и засмеялся.
– Меня и от них мутит, вечно треплются про совесть.
– А как атеисты? – Он все еще смеялся.
– Одна скука, только и разговоров что о Боге.
– Но вы-то сами кто?
– Я – клоун, – сказал я, – а в настоящую минуту я даже выше своей репутации. И есть на свете одно существо католического вероисповедания, которое мне необходимо, – Мари, но именно ее вы у меня отняли.
– Ерунда, Шнир, – сказал он, – вы эту теорию выкиньте из головы. Мы живем в двадцатом веке.
– Вот именно, – сказал я. – В тринадцатом веке я был бы любимым шутом при дворе, и даже кардиналам не было бы дела, обвенчан я с ней или нет. А теперь каждый католик-мирянин теребит ее несчастную совесть, принуждает ее к прелюбодеянию, к разврату, и все из-за жалкого клочка бумаги. А вас, доктор, за ваших мадонн в тринадцатом веке отлучили бы от церкви. Вы отлично знаете, что их сперли из баварских и тирольских церквей, и не мне объяснять вам, что ограбление церкви и в наше время считается довольно-таки тяжелым преступлением.
– Послушайте, Шнир, зачем вы переходите на личности? – сказал он. – Этого я от вас не ожидал.
– Сами вы уже который год вмешиваетесь в мои личные дела, а стоило мне мимоходом сказать вам в глаза правду, которая может иметь для вас неприятные последствия, и вы уже беситесь. Погодите, вот будут у меня опять деньги, найму частного сыщика, пусть разузнает, откуда взялись ваши мадонны.
Он уже не смеялся, только кашлянул, и я почувствовал, что до него еще не дошло, что я говорю всерьез.
– Дайте отбой, Кинкель, – сказал я, – кладите трубку, не то я еще заговорю о прожиточном минимуме. Желаю вам и вашей совести доброй ночи.
Он так ничего и не понял, и первым положил трубку я.
Х
Я прекрасно понимал, что Кинкель был со мной необычайно мил. Возможно даже, что, если бы я у него попросил денег, он бы мне их дал. Но мне была слишком противна и его болтовня про метафизику с сигарой во рту, и внезапная обида, когда я заговорил о его мадоннах. Не хотелось иметь с ним дело. И с госпожой Фредебойль тоже. К черту! А самому Фредебойлю я, того и гляди, дал бы при случае по морде. Глупо было бороться с ним «духовным оружием». Иногда мне жаль, что больше нет дуэлей. Спор из-за Мари между мной и Цюпфнером можно было бы разрешить только дуэлью. Мерзко, что все это сопровождается разговорами о моральных принципах, с письменными объяснениями и бесконечными тайными совещаниями в ганноверском отделе. После второго выкидыша Мари так сдала, стала такой нервной, вечно убегала в церковь и раздражалась, когда я в свободные вечера не ходил с ней в театр, на концерты или на лекции. А когда я ей предлагал поиграть, как бывало, в «братец-не-сердись» и выпить чаю, лежа на животе в постели, она раздражалась еще больше. В сущности, все началось с того, что она только из одолжения мне, чтобы меня успокоить или утешить, соглашалась играть в «братец-не-сердись». И в кино со мной ходить перестала на мои любимые картины – те, на которые пускают ребят до шести лет.
По-моему, никто на свете не понимает психологии клоуна, даже другие клоуны, тут всегда мешает зависть или недоброжелательность. Мари почти что стала меня понимать, но до конца она меня так и не поняла. Она всегда считала, что я, как «творческая личность», должен проявлять «горячий интерес» к восприятию всяческой культуры – и чем больше, тем лучше. Какое заблуждение! Конечно, если бы я в свободный вечер услыхал, что где-то идет пьеса Беккета, я бы сразу полетел туда на такси, да и в кино я тоже хожу довольно часто, но всегда только на картины, куда допускаются и дети до шести лет. Этого Мари никогда не могла понять – ведь ее католическое воспитание по большей части состояло только из обрывков психологических понятий и рационализма под мистическим соусом, хотя в конце концов все это сводилось к установке: «Пусть играют в футбол, чтобы не думали о девочках», а я так любил думать о девочках, правда, потом только об одной Мари. Иногда я казался себе просто чудовищем, но я люблю ходить на картины, куда пускают даже шестилетних, потому что в них нет этой взрослой пошлятины – про супружескую неверность, про разводы. В этих картинах про измены и разводы главную роль играет обычно чье-то «счастье». «Ах, дай мне счастье, любимая!» или «Неужели ты помешаешь нашему счастью?». А я не могу себе представить счастье, которое длилось бы дольше, чем секунду, ну, может быть, две-три секунды. Настоящие фильмы про шлюх я тоже смотрю охотно, но их очень мало. Большинство из них сделано с такими претензиями, что и не разберешь – про шлюх они или не про шлюх. Ведь есть еще одна категория женщин: они не шлюхи и не верные жены, а просто жалостливые женщины, но их в фильмах никогда не показывают. А вот фильмы, куда пускают шестилетних, всегда кишмя кишат шлюхами. Я никогда не мог понять, о чем думают все эти цензурные комиссии, распределяющие фильмы на категории, допуская такие картины для детей. Женщины в этих фильмах почти всегда либо шлюхи от природы, либо шлюхи в социологическом смысле: жалости они никогда не знают. Смотришь, как в каком-нибудь разухабистом кабачке на Диком Западе танцуют этакие блондинки канкан и огрубелые ковбои, золотоискатели или охотники, которые года два гонялись за разным зверьем, глазеют на этих молодых белокурых красоток, пока они отплясывают свои канканы, но пусть эти ковбои, золотоискатели или охотники только попробуют приволокнуться за этими красотками или полезть к ним в комнату, тут сразу либо двери у них под носом захлопываются, либо какая-нибудь сволочь сбивает их кулаком с ног. Конечно, я понимаю, что все должно внушать представление о добродетели. Но это безжалостность – и именно там, где единственно человеческим была бы жалость, сочувствие. Ничего удивительного, что эти несчастные парни начинают бить друг другу морду, стрелять – для них это все равно как для нас, мальчишек, футбол в интернате, но тут, когда речь идет о взрослых людях, это еще безжалостнее. Нет, не понимаю я американской морали. Наверно, там жалостливую женщину сожгли бы, как ведьму, – я про такую, которая уступает не ради денег и не из страсти к данному мужчине, а исключительно по доброте душевной, из жалости к человеческому естеству.
Особенно тягостны для меня фильмы про художников. Фильмы про художников по большей части делают те люди, которые дали бы Ван Гогу за картину даже не пачку табаку, а полпачки, а потом и об этом пожалели бы, потому что смекнули, что он отдал бы ее просто за понюшку табаку. В фильмах про художников все страдания творческой души, вся нужда и борьба с дьяволом обычно относятся к давно прошедшим временам. Живой художник, у которого курить нечего и башмаков жене купить не на что, этим киношникам неинтересен, потому что три поколения пустобрехов еще не успели уверить их, что он гений. А одного поколения пустобрехов мало. «Неукротимые порывы творческой души» – даже Мари в это верила. Обидно, что и вправду у человека бывает похожее состояние, но называть это надо как-то иначе. Клоуну, например, нужен отдых, ощущение того, что люди называют свободным временем. Но эти другие люди совершенно не понимают, что для клоуна ощущение отдыха состоит в том, чтобы забыть о своей работе, а не понимают они потому, что они-то – и для них это вполне естественно – занимаются искусством именно для отдыха в свое свободное время. Особо стоят люди «при искусстве», они ни о чем, кроме искусства, не думают, но им для этого свободное время не нужно, потому что они не работают. И не обобраться недоразумений, если таких людей «при искусстве» возводить в художники. Эти самые люди «при искусстве» тогда и начинают разговоры об искусстве, когда у настоящего художника появляется ощущение свободного времени, отдыха. И они бьют прямо по больному месту: в те две-три минуты, когда художник забывает об этом искусстве, эти прихвостни искусства начинают разговор про Ван Гога, про Кафку, Чаплина или Беккета. Я готов руки на себя наложить в такие минуты: только мне удается выкинуть все из головы, думать лишь про нас с Мари, про пиво, про осенние листья, про игру в «братец-не-сердись», вообще про какую-нибудь чепуху, даже, может быть, пошловатую или сентиментальную, как тут же какой-нибудь Фредебойль или Зоммервильд начинают трепаться про искусство. Именно в ту минуту, когда я с невероятным восторгом чувствую себя абсолютно обыкновенным человеком, самым обыкновенным обывателем вроде Карла Эмондса, Фредебойль или Зоммервильд заводят разговор про Клоделя или Ионеско. С Мари тоже это случается, раньше это было реже, а в последнее время стало куда чаще. Заметил я это, когда рассказывал ей, что хочу начать петь песенки под гитару. Это задело, как она выразилась, ее эстетическое чувство. В то время как человек, не имеющий отношения к искусству, отдыхает, клоун работает. Все люди, от самого высокооплачиваемого директора до рядового рабочего, знают, что значит отдых, безразлично – пьет ли человек пиво или охотится на медведей на Аляске, коллекционирует ли он марки или картины импрессионистов или экспрессионистов, бесспорно лишь одно: кто коллекционирует произведения искусства, тот сам не художник. А меня может привести в ярость даже то, как человек, отдыхая, закуривает сигарету: слишком хорошо я знаю это ощущение и не могу не завидовать, когда оно длится долго. У клоуна тоже бывают такие минуты: можно вытянуть ноги, закурить и на какие-нибудь полсигареты ощутить, что значит отдых. Но так называемый отпуск для меня чистая погибель. Мари несколько раз пробовала показать мне, что это такое, мы уезжали к морю, на курорты, в горы, и я уже на второй день заболевал, покрывался сыпью с головы до ног, и мне переворачивали душу мысли о самоубийстве. Думаю, что заболевал я от зависти. Потом у Мари появилась чудовищная мысль провести со мной отдых там, куда ездят всякие художники. Но там, конечно, были главным образом люди «при искусстве», и я в первый же вечер подрался с одним идиотом – он какая-то важная шишка в кино и впутал меня в спор о Чаплине, Гроке и о функции шута в шекспировских драмах. Меня не только здорово отколотили (эти прихвостни искусства ухитряются неплохо жить на счет всяких искусствообразных профессий, но сами, в сущности, не работают, и сил у них хоть отбавляй), но к тому же у меня началась желтуха. А как только мы выбрались из этой гнусной дыры, я сразу выздоровел.
Что меня беспокоит больше всего – это мое неумение как-то себя ограничивать, или, как сказал бы мой импресарио Цонерер, сконцентрироваться. В моих номерах слишком перемешаны пантомима, артистизм, буффонада – я мог бы быть хорошим Пьеро, но я и неплохой клоун, – да к тому же я слишком часто меняю номера. Наверно, я мог бы годами с успехом жить на такие номера, как «Католическая и протестантская проповедь», «Заседание совета акционеров», «Уличное движение» и всякие другие, но стоит мне проделать номер раз десять-двадцать, мне становится до того скучно, что в самый разгар выступления на меня нападает зевота, и я с огромным усилием сдерживаю мускулы лица. Сам на себя нагоняю скуку. Когда подумаешь, что есть клоуны, которые лет тридцать показывают одни и те же номера, – такая тоска берет, словно меня приговорили съесть мешок муки чайной ложечкой. А мне работа должна доставлять удовольствие, не то я заболеваю. И вот вдруг я начинаю выдумывать, что мог бы неплохо жонглировать или петь песенки, но все это одна уловка, лишь бы не тренироваться каждый день. А это часа четыре, не меньше, а то и больше. В последние шесть недель я и это запустил, только проделаю два-три кульбита, похожу на руках, постою на голове да позанимаюсь гимнастикой на резиновом мате – я его всюду таскаю с собой, – вот и все. Ушибленное колено теперь для меня хороший предлог лежать на диване, курить, дышать жалостью к самому себе. Моя последняя новая пантомима – «Речь министра» – вышла очень неплохо, но мне не хотелось впадать в карикатуру, а в чем-то другом я недотянул. Все мои лирические попытки терпели крах. Мне еще никогда не удавалось изобразить человеческие чувства, не впадая в ужасающую сентиментальность. Правда, в моих номерах «Танцующая пара», «Уход в школу и возвращение» по крайней мере чувствовалось актерское мастерство. Но когда я попытался изобразить жизнь человека, я опять впал в карикатуру. Мари права, называя мои попытки петь песенки под гитару попытками уйти от себя. Лучше всего мне удается изображение всяких будничных несуразиц: я наблюдаю, слагаю эти наблюдения, возвожу их в степень, а потом извлекаю корень, но уже не с тем показателем, с каким возводил в степень. На каждый большой вокзал по утрам прибывают тысячи людей, работающих в городе, и уезжают тысячи, работающих за городом. Почему бы этим людям просто не обменяться работой? А возьмите вереницы автомашин – с какими мучениями они протискиваются навстречу друг другу в часы пик. Стоит только переменить работу или местожительство – и не будет ни бензиновой вони, ни отчаянной жестикуляции постовых на перекрестках; стало бы так тихо, что постовые могли бы играть в «братец-не-сердись». Из всех этих наблюдений я сделал пантомиму – у меня в ней работают только руки и ноги, а лицо, густо набеленное, не шевелится, и мне удается при помощи одних рук и ног создать впечатление невероятно многолюдного и запутанного движения. Моя цель – как можно меньше реквизита, лучше вообще ничего. Для номера «Уход в школу и возвращение» мне даже ранца не надо, я работаю рукой, и этого достаточно, я перебегаю улицу перед самым трамваем, который дает отчаянные звонки, прыгаю на автобусы, соскакиваю с них, задерживаюсь у витрин, пишу мелом на стенах слова с орфографическими ошибками, опаздываю, меня ругает учитель, и, сняв ранец с плеча, я тихонько прокрадываюсь за свою парту. Трогательность детского быта мне особенно удается: в жизни ребенка все обыденное, банальное разрастается до огромных размеров, кажется чуждым, беспорядочным, всегда трагичным. И настоящего отдыха у ребенка тоже не бывает: только когда в его жизнь входят «высшие моральные принципы», появляется отдых, свободное время. Я всегда с неостывающим азартом наблюдаю за тем, как люди отдыхают, наблюдаю за любыми проявлениями праздника, праздничного ощущения: как рабочий сует в карман конверт с получкой и садится на велосипед, как биржевик окончательно кладет телефонную трубку на рычаг, а записную книжку – в ящик стола, как он запирает этот ящик или как продавщица в продовольственном магазине снимает халат, моет руки, приводит в порядок перед зеркалом волосы, мажет губы, берет сумочку и уходит домой – все это так человечно, что я сам себе кажусь выродком, оттого что для меня этот праздничный вечер, этот отдых – только цирковой номер. Я как-то говорил с Мари: а бывает ли отдых у животных, например, у коровы, когда она пережевывает жвачку, или у осла, когда он дремлет у изгороди. Она сказала, что думать, будто животные тоже работают и у них тоже бывают праздники, – это кощунство. Конечно, сон – это отдых, праздник, и чудесно, что это объединяет людей и зверей, но ведь в празднике самое праздничное именно то, что его осознаешь как праздник. Даже у врачей есть праздники, а недавно отдых стал полагаться и священникам. Меня это раздражает, по-моему, им никакого отдыха не полагается, и они должны были бы хотя бы в этом сочувствовать артистам. Им вовсе не нужно разбираться в искусстве, в миссии художника, в предначертании и прочей ерунде, но природу артиста они понимать должны. Я всегда спорил с Мари, отдыхает ли Бог, в которого она верит. Она утверждала, что отдыхает, доставала Ветхий Завет и читала мне про Бога из книги Бытия: «И почил в день седьмой от всех дел Своих». А я возражал цитатами из Нового Завета, я ей доказывал, что, может быть, в Ветхом Завете Бог и отдыхал, но вот Христа на отдыхе я себе совсем не могу представить. Мари побледнела, когда я это сказал, но признала, что ей тоже кажется богохульством думать, будто у Христа может быть выходной день, и что у него, конечно, праздники бывали, но отдыхать он никогда не отдыхал.
Сплю я, как животное, почти всегда без снов, иногда просплю минут пять, а кажется, будто целый век отсутствовал, будто просунул голову сквозь стенку, за которой лежит беспредельная тьма, забвение, вечный отдых и то, о чем думала Генриетта, когда роняла вдруг ракетку на землю, ложку в суп или рывком швыряла карты в камин, – Ничто. Я ее как-то спросил, о чем она думает, когда на нее «находит». И она спросила:
– Неужели ты не знаешь?
– Нет, – сказал я.
И она тихо проговорила:
– Ни о чем, я думаю ни о чем.
Я сказал, что нельзя думать ни о чем, а она сказала:
– Нет, можно, я сразу делаюсь вся пустая и вместе с тем как будто пьяная, и мне хочется все с себя сбросить – башмаки, платье, остаться без всякого балласта.
Она еще сказала, что это изумительное состояние и она всегда ждет, когда оно наступит, но оно никогда не наступает, если ждать, а приходит неожиданно, и похоже оно на вечность. Раза два на нее «находило» в школе. Помню, как мама сердито говорила по телефону с классной наставницей и как она сказала: «Да, да, именно истерия, совершенно правильно, и накажите ее как следует».
Иногда и у меня появляется ощущение великолепной пустоты, во время игры в «братец-не-сердись», когда игра затягивается часа на три-четыре: ничего, кроме обычных шумов, постукивания костяшек, стука фигурок, щелканья, когда отбрасываешь фигурку. Мне удалось даже заставить Мари полюбить эту игру, хотя она больше склонялась к шахматам. Для нас эта игра стала чем-то вроде наркотика. Мы иногда играли подряд пять, а то и шесть часов, и официанты или горничные, которые приносили нам в номер чай или кофе, смотрели на нас с тем смешанным выражением страха и злобы, какое появлялось на лице моей матери, когда на Генриетту «находило»; иногда они говорили, как те люди в автобусе, когда я возвращался от Мари: «Невероятно!» Мари изобрела очень сложную систему очков: каждый получал очко, смотря по тому, на какой клеточке его выкинули или он выкинул партнера. Получалась очень интересная таблица, и я купил ей четырехцветный карандаш, чтобы удобнее было отмечать «активные и пассивные преимущества», как она это называла. Иногда мы играли во время долгих железнодорожных переездов, к удивлению серьезных пассажиров, пока я вдруг не заметил, что Мари играет со мной только для того, чтобы доставить мне удовольствие, успокоить меня, дать отдых моей «душе художника». Ее это уже не интересовало, все началось месяца два назад, когда я отказался ехать в Бонн. Я боялся членов ее кружка, боялся встретиться с Лео, но Мари непрестанно повторяла, что ей «необходимо вновь вдохнуть католическую атмосферу». Я напомнил ей, как мы возвращались тогда, после того первого вечера в их кружке, усталые, измученные, пришибленные, и как она все время повторяла в поезде: «Ты такой милый, такой милый!» А потом уснула у меня на плече и только изредка вздрагивала, когда на платформе выкрикивали названия станций: Зехтем, Вальберберг, Крюль, Кальшойрен, – вздрогнет, встрепенется, и я снова кладу ее голову себе на плечо, а когда мы вышли на Западном вокзале в Кёльне, она сказала: «Лучше бы мы пошли в кино». Я напомнил ей этот день, когда она заговорила о «католической атмосфере», которую ей необходимо вдохнуть, и предложил пойти в кино, потанцевать, поиграть в «братец-не-сердись», но она покачала головой и уехала в Бонн одна. Совершенно не представляю себе, что это такое – «католическая атмосфера». В конце концов, жили мы в Оснабрюкке, а там атмосфера вряд ли такая уж некатолическая.
XI
Я пошел в ванную комнату, налил в ванну немного экстракта, который мне поставила Моника Сильвс, и пустил горячую воду. Принимать ванну почти так же приятно, как спать, а спать – почти так же приятно, как заниматься «этим». Мари всегда так говорила, а я всегда думаю об «этом» ее словами. Совершенно не могу себе представить, что Мари может заниматься «этим» с Цюпфнером, у меня просто фантазии не хватает, так же как у меня никогда не возникало соблазна рыться в вещах Мари. Я только мог себе представить, как она играет с ним в «братец-не-сердись», – и одно это уже приводило меня в бешенство. Она ничего не может делать с ним из того, что мы с ней делали вместе, иначе она должна сама себе казаться шлюхой и предательницей. Даже мазать ему масло на хлеб она не смеет. А когда я себе представлял, что она берет его сигарету с пепельницы и докуривает ее, я просто сходил с ума, и даже то, что он некурящий и, наверно, играет с ней только в шахматы, меня ничуть не утешало. Ведь что-то она с ним все-таки делает: танцует, играет в карты, читает ему вслух или слушает, как он читает, да и разговаривать она с ним должна – хотя бы о деньгах, о погоде. Собственно говоря, она могла только готовить ему обед, не вспоминая меня на каждом шагу, – она так редко для меня готовила, что это, пожалуй, не будет ни предательством, ни распутством. Сейчас мне больше всего хотелось позвонить Зоммервильду, но было слишком рано: лучше всего позвонить часа в три ночи, разбудить его и завести пространный разговор об искусстве. А звонить ему в восемь вечера – слишком прилично, тут не спросишь, сколько высших моральных принципов он уже скормил Мари и какие комиссионные получил с Цюпфнера: наперсный крест тринадцатого века или среднерейнскую мадонну четырнадцатого? Думал я и о том, как я его прикончу. Эстетов, конечно, лучше всего убивать художественными ценностями, чтобы они и в предсмертную минуту возмутились таким надругательством. Статуэтка мадонны – штука, пожалуй, недостаточно ценная, да к тому же слишком прочная, и он, чего доброго, умрет, утешенный тем, что рама тяжелая, но тут он опять-таки утешился бы тем, что картина останется в целости. Пожалуй, я мог бы соскрести краску с ценной картины и повесить его на холсте или этим же холстом придушить – способ убийства довольно несовершенный, но как убийство эстета – совершенство! Вообще отправить на тот свет такого здоровяка и силача – дело нелегкое. Зоммервильд высокий, стройный, «воплощенное благообразие», седой, лицо «просветленное», кроме того, он альпинист и гордится тем, что принимал участие в двух мировых войнах и получил серебряную медаль за спортивные достижения. Противник он стойкий, хорошо тренированный. Что ж, придется раздобыть какое-нибудь произведение искусства из бронзы или из золота, а еще лучше, пожалуй, из мрамора; жаль, что мне не удастся съездить в Рим и спереть что-нибудь из ватиканского музея.
Пока наливалась ванна, я вспомнил Блотерта, одного из важных членов кружка, я видел его всего два раза. Он был, так сказать, противником Кинкеля «справа», тоже из политиканов, но из «другой среды, из другого круга», для него Цюпфнер был тем, чем Фредебойль был для Кинкеля: чем-то вроде «правой руки», ну и, конечно, «духовным наследником». Но звонить по телефону Блотерту было еще бессмысленней, чем умолять о помощи стены моей комнаты. Единственное, что вызывает в нем хоть какие-то признаки жизни, – это кинкелевские мадонны в стиле барокко. Он так их сравнивал со своими, что сразу было видно, до чего глубоко они ненавидят друг друга. Блотерт был председателем чего-то такого, где с удовольствием стал бы председателем сам Кинкель, и они со школьных лет были на «ты». Оба раза, что я встречал Блотерта, я пугался его. Он был среднего роста, светлый блондин, и с виду ему можно было дать лет двадцать пять; когда на него смотрели, он ухмылялся, а когда с ним заговаривали, он сначала с полминуты скрежетал зубами, и из четырех слов, которые он произносил, два были «канцлер» и «католон», и тут вдруг становилось видно, что ему за пятьдесят и выглядит он как постаревший от тайных пороков школьник последнего класса. Жуткая личность. Иногда его схватывала судорога, он начинал заикаться и говорить: «ка-ка-ка-ка…» – и мне его становилось жаль, пока он наконец не выдавливал из себя последние слоги – «…нцлер» или «…толон». Мари говорила мне, что он просто потрясающе умен. Это утверждение так и осталось недоказанным, и я только раз слыхал, как он произнес больше двадцати слов, это было, когда в их «кружке» обсуждали вопрос о смертной казни. Он был «за, без всяких ограничений», и удивило меня в его высказывании то, что он и не пытался лицемерно утверждать обратное. Он весь сиял от удовольствия, снова путался в своих «ка-ка-ка», и казалось, будто при каждом «ка» он отрубает кому-то голову. Иногда он косился на меня, и всегда с таким изумлением, будто ему каждый раз приходится сдерживаться, чтобы не сказать: «Невероятно!» – хотя он все же не мог удержаться и не покачать головой. По-моему, некатолики для него вообще пустое место. Мне всегда казалось, что, если введут смертную казнь, он будет ратовать за то, чтобы казнить всех некатоликов. У него тоже была жена, дети и телефон. Но я скорее позвонил бы опять моей матери. Блотерта я вспомнил только потому, что думал о Мари. Наверно, он постоянно к ней ходит, он был как-то связан с правлением, где работал Цюпфнер, и при одной мысли, что он у нее постоянный гость, мне становилось жутко. Ведь я к ней очень привязан, и когда она на прощанье, словно отправляясь в паломничество, сказала: «Я должна пойти тем путем, каким я должна идти», то это можно было бы понять и как последнее слово христианской мученицы, которую сейчас бросят на съедение диким зверям. Думал я и о Монике Сильвс, сознавая, что когда-нибудь я приму ее жалость. Она была такая красивая, такая милая, и мне казалось, что она еще меньше подходит к этому «кружку», чем Мари. Что бы она ни делала: возилась ли на кухне – я и ей как-то помогал делать бутерброды, – улыбалась ли, танцевала или рисовала, – все у нее выходило как-то естественно, хотя ее картины мне и не нравились. Зоммервильд слишком много наговорил ей про «откровение» и про миссию художника, и она стала писать одних мадонн. Можно было бы попытаться отговорить ее от этого: все равно толку не будет, даже если веришь и хорошо рисуешь. Пусть этих мадонн рисуют дети или набожные монахи, которые и художниками-то себя не считают. Я стал думать, удастся ли мне отговорить Монику от писания мадонн. Она не дилетантка, еще очень молода, ей года двадцать два – двадцать три, наверняка невинна, и это меня особенно пугало. Вдруг мелькнула страшная мысль: а что, если католики решили, чтобы я сыграл для них роль Зигфрида? Она прожила бы со мной года два, была бы ласкова, пока не начали бы действовать высшие моральные принципы, а тогда она вернулась бы в Бонн и вышла замуж за фон Северна. Я даже покраснел от этой мысли и постарался ее отогнать. Моника такая милая, что не хотелось выдумывать про нее всякие злые глупости. Но если мы с ней встретимся, надо будет прежде всего отучить ее от Зоммервильда, этого салонного льва, похожего на моего отца. Только мой отец не имеет никаких притязаний, кроме того, чтобы, по возможности, быть гуманным эксплуататором, и этим притязаниям он соответствует вполне. А Зоммервильд всегда производит впечатление, будто он с таким же успехом мог бы быть директором курзала или филармонии, начальником бюро информации на обувной фабрике, изысканным шансонье, даже, может быть, редактором «умело» поставленного модного журнала. Каждое воскресенье он читает проповедь в церкви Св. Корбиниана. Мари таскала меня туда дважды. Начальству Зоммервильда надо было бы запретить это представление – до того оно невыносимо. Лучше уж я сам буду читать Рильке, Гофмансталя и Ньюмена, чем позволять поить себя какой-то паточной смесью из всех троих. Меня даже пот прошиб во время этой проповеди. Есть такие противоестественные явления, которые для моей вегетативной нервной системы просто противопоказаны. Когда я слышу выражение: «Пусть сущее пребудет, а крылатое воспарит», мне становится страшно. Куда приятнее слушать, как беспомощный толстяк пастор, запинаясь, бормочет с кафедры непостижимые истины этой религии и не воображает, будто говорит так, что «хоть сейчас в печать». Мари огорчилась, увидев, что проповедь Зоммервильда не произвела на меня впечатления. Особенно мучительно было потом, когда мы после проповеди зашли в кафе, неподалеку от корбинианской церкви, там набилось полным-полно всяких людей «при искусстве», которые тоже слушали Зоммервильда. Потом пришел он сам, около него образовалось что-то вроде кружка, нас тоже втянули туда, и эту тягомотину, которую он нес с кафедры, стали пережевывать не раз, и не два, и не три. Прелестная актриса с длинными золотистыми локонами и ангельским личиком – Мари шепнула, что она уже «на три четверти обращена», – была готова целовать Зоммервильду ноги. Уверен, что он не протестовал бы.
Я открыл кран в ванной, снял куртку, стянул через голову верхнюю рубаху и белье, бросил все в угол и уже собрался влезть в ванну, как зазвонил телефон. Я знал только одного человека, в чьих руках телефон начинает звонить так бодро, так мужественно, – это Цонерер, мой агент. Он так близко и настойчиво кричит в трубку, что я всегда боюсь, как бы он меня не забрызгал слюной. Если он хочет сказать мне что-нибудь приятное, он начинает разговор так: «Вчера вы были просто великолепны». Говорит он это наобум, даже не зная, был ли я действительно великолепен или нет, а когда он хочет сказать неприятное, он обычно начинает так: «Слушайте, Шнир, вы, конечно, не Чаплин…» Этим он вовсе не хочет сказать, что я хуже Чаплина как клоун, а просто что я не настолько знаменит, чтобы позволять себе то, что раздражает его, Цонерера.
– Гм-м, – промычал он.
– Слушайте, доктор, вам не трудно вынуть сигару изо рта? Получается, будто мы с вами обсуждаем курс акций. От вашего причмокивания мне становится как-то не по себе.
– Ну, знаете ли! – сказал он, но сигару все же вынул. – И вообще поймите, все, что вы об этом думаете, ваше личное дело. А Мари Деркум думает об этом иначе и поступает, как ей подсказывает совесть. И могу добавить – поступает совершенно правильно.
– Почему же вы, проклятые католики, не можете сказать мне, где она? Вы ее от меня прячете?
– Не валяйте дурака, Шнир, – сказал он. – Мы живем не в Средневековье.
– Очень жаль, что не в Средневековье, – сказал я, – тогда ей разрешили бы остаться моей наложницей и никто не ущемлял бы ее совесть с утра до вечера. Ничего, она еще вернется.
– На вашем месте, Шнир, я не был бы так в этом уверен. Жаль, что вы явно не способны воспринимать метафизические понятия.
– С Мари было все в порядке, пока она заботилась о спасении моей души, но вы ей внушили, что она должна спасать еще и свою душу, и выходит так, что мне, человеку, неспособному воспринимать метафизические понятия, приходится теперь заботиться о спасении души Мари. Если она выйдет замуж за Цюпфнера, она станет настоящей грешницей. Настолько-то я разбираюсь в вашей метафизике – то, что она творит, и есть прелюбодеяние и разврат, а ваш прелат Зоммервильд тут играет роль сводника.
Он все-таки заставил себя рассмеяться, правда, не слишком громогласно:
– Звучит забавно, если иметь в виду, что Гериберт является главой немецкого католицизма, так сказать, по общественной линии, а прелат Зоммервильд, так сказать, по духовной.
– А вы – совесть этого самого католицизма, – сказал я сердито, – и отлично знаете, что я прав.
Он пыхтел в трубку там, на Венусберге, стоя под наименее ценной из трех своих мадонн.
– Вы потрясающе молоды, – сказал он, – можно только позавидовать.
– Бросьте, доктор, – сказал я, – не потрясайтесь и не завидуйте мне, а если Мари ко мне не вернется, я этого вашего милейшего прелата просто пришибу. Да, пришибу, – повторил я, – мне терять нечего.
Он помолчал и опять сунул сигару в рот.
– Знаю, – сказал я, – знаю, что ваша совесть сейчас лихорадочно работает. Если бы я убил Цюпфнера, это вам было бы на руку: он вас не любит, и для вас он слишком правый, а вот Зоммервильд для вас крепкая поддержка перед Римом, где вы – впрочем, по моему скромному мнению, несправедливо – считаетесь леваком.
– Бросьте глупить, Шнир, что это с вами?
– Католики мне действуют на нервы, – сказал я, – они нечестно играют.
– А протестанты? – спросил он и засмеялся.
– Меня и от них мутит, вечно треплются про совесть.
– А как атеисты? – Он все еще смеялся.
– Одна скука, только и разговоров что о Боге.
– Но вы-то сами кто?
– Я – клоун, – сказал я, – а в настоящую минуту я даже выше своей репутации. И есть на свете одно существо католического вероисповедания, которое мне необходимо, – Мари, но именно ее вы у меня отняли.
– Ерунда, Шнир, – сказал он, – вы эту теорию выкиньте из головы. Мы живем в двадцатом веке.
– Вот именно, – сказал я. – В тринадцатом веке я был бы любимым шутом при дворе, и даже кардиналам не было бы дела, обвенчан я с ней или нет. А теперь каждый католик-мирянин теребит ее несчастную совесть, принуждает ее к прелюбодеянию, к разврату, и все из-за жалкого клочка бумаги. А вас, доктор, за ваших мадонн в тринадцатом веке отлучили бы от церкви. Вы отлично знаете, что их сперли из баварских и тирольских церквей, и не мне объяснять вам, что ограбление церкви и в наше время считается довольно-таки тяжелым преступлением.
– Послушайте, Шнир, зачем вы переходите на личности? – сказал он. – Этого я от вас не ожидал.
– Сами вы уже который год вмешиваетесь в мои личные дела, а стоило мне мимоходом сказать вам в глаза правду, которая может иметь для вас неприятные последствия, и вы уже беситесь. Погодите, вот будут у меня опять деньги, найму частного сыщика, пусть разузнает, откуда взялись ваши мадонны.
Он уже не смеялся, только кашлянул, и я почувствовал, что до него еще не дошло, что я говорю всерьез.
– Дайте отбой, Кинкель, – сказал я, – кладите трубку, не то я еще заговорю о прожиточном минимуме. Желаю вам и вашей совести доброй ночи.
Он так ничего и не понял, и первым положил трубку я.
Х
Я прекрасно понимал, что Кинкель был со мной необычайно мил. Возможно даже, что, если бы я у него попросил денег, он бы мне их дал. Но мне была слишком противна и его болтовня про метафизику с сигарой во рту, и внезапная обида, когда я заговорил о его мадоннах. Не хотелось иметь с ним дело. И с госпожой Фредебойль тоже. К черту! А самому Фредебойлю я, того и гляди, дал бы при случае по морде. Глупо было бороться с ним «духовным оружием». Иногда мне жаль, что больше нет дуэлей. Спор из-за Мари между мной и Цюпфнером можно было бы разрешить только дуэлью. Мерзко, что все это сопровождается разговорами о моральных принципах, с письменными объяснениями и бесконечными тайными совещаниями в ганноверском отделе. После второго выкидыша Мари так сдала, стала такой нервной, вечно убегала в церковь и раздражалась, когда я в свободные вечера не ходил с ней в театр, на концерты или на лекции. А когда я ей предлагал поиграть, как бывало, в «братец-не-сердись» и выпить чаю, лежа на животе в постели, она раздражалась еще больше. В сущности, все началось с того, что она только из одолжения мне, чтобы меня успокоить или утешить, соглашалась играть в «братец-не-сердись». И в кино со мной ходить перестала на мои любимые картины – те, на которые пускают ребят до шести лет.
По-моему, никто на свете не понимает психологии клоуна, даже другие клоуны, тут всегда мешает зависть или недоброжелательность. Мари почти что стала меня понимать, но до конца она меня так и не поняла. Она всегда считала, что я, как «творческая личность», должен проявлять «горячий интерес» к восприятию всяческой культуры – и чем больше, тем лучше. Какое заблуждение! Конечно, если бы я в свободный вечер услыхал, что где-то идет пьеса Беккета, я бы сразу полетел туда на такси, да и в кино я тоже хожу довольно часто, но всегда только на картины, куда допускаются и дети до шести лет. Этого Мари никогда не могла понять – ведь ее католическое воспитание по большей части состояло только из обрывков психологических понятий и рационализма под мистическим соусом, хотя в конце концов все это сводилось к установке: «Пусть играют в футбол, чтобы не думали о девочках», а я так любил думать о девочках, правда, потом только об одной Мари. Иногда я казался себе просто чудовищем, но я люблю ходить на картины, куда пускают даже шестилетних, потому что в них нет этой взрослой пошлятины – про супружескую неверность, про разводы. В этих картинах про измены и разводы главную роль играет обычно чье-то «счастье». «Ах, дай мне счастье, любимая!» или «Неужели ты помешаешь нашему счастью?». А я не могу себе представить счастье, которое длилось бы дольше, чем секунду, ну, может быть, две-три секунды. Настоящие фильмы про шлюх я тоже смотрю охотно, но их очень мало. Большинство из них сделано с такими претензиями, что и не разберешь – про шлюх они или не про шлюх. Ведь есть еще одна категория женщин: они не шлюхи и не верные жены, а просто жалостливые женщины, но их в фильмах никогда не показывают. А вот фильмы, куда пускают шестилетних, всегда кишмя кишат шлюхами. Я никогда не мог понять, о чем думают все эти цензурные комиссии, распределяющие фильмы на категории, допуская такие картины для детей. Женщины в этих фильмах почти всегда либо шлюхи от природы, либо шлюхи в социологическом смысле: жалости они никогда не знают. Смотришь, как в каком-нибудь разухабистом кабачке на Диком Западе танцуют этакие блондинки канкан и огрубелые ковбои, золотоискатели или охотники, которые года два гонялись за разным зверьем, глазеют на этих молодых белокурых красоток, пока они отплясывают свои канканы, но пусть эти ковбои, золотоискатели или охотники только попробуют приволокнуться за этими красотками или полезть к ним в комнату, тут сразу либо двери у них под носом захлопываются, либо какая-нибудь сволочь сбивает их кулаком с ног. Конечно, я понимаю, что все должно внушать представление о добродетели. Но это безжалостность – и именно там, где единственно человеческим была бы жалость, сочувствие. Ничего удивительного, что эти несчастные парни начинают бить друг другу морду, стрелять – для них это все равно как для нас, мальчишек, футбол в интернате, но тут, когда речь идет о взрослых людях, это еще безжалостнее. Нет, не понимаю я американской морали. Наверно, там жалостливую женщину сожгли бы, как ведьму, – я про такую, которая уступает не ради денег и не из страсти к данному мужчине, а исключительно по доброте душевной, из жалости к человеческому естеству.
Особенно тягостны для меня фильмы про художников. Фильмы про художников по большей части делают те люди, которые дали бы Ван Гогу за картину даже не пачку табаку, а полпачки, а потом и об этом пожалели бы, потому что смекнули, что он отдал бы ее просто за понюшку табаку. В фильмах про художников все страдания творческой души, вся нужда и борьба с дьяволом обычно относятся к давно прошедшим временам. Живой художник, у которого курить нечего и башмаков жене купить не на что, этим киношникам неинтересен, потому что три поколения пустобрехов еще не успели уверить их, что он гений. А одного поколения пустобрехов мало. «Неукротимые порывы творческой души» – даже Мари в это верила. Обидно, что и вправду у человека бывает похожее состояние, но называть это надо как-то иначе. Клоуну, например, нужен отдых, ощущение того, что люди называют свободным временем. Но эти другие люди совершенно не понимают, что для клоуна ощущение отдыха состоит в том, чтобы забыть о своей работе, а не понимают они потому, что они-то – и для них это вполне естественно – занимаются искусством именно для отдыха в свое свободное время. Особо стоят люди «при искусстве», они ни о чем, кроме искусства, не думают, но им для этого свободное время не нужно, потому что они не работают. И не обобраться недоразумений, если таких людей «при искусстве» возводить в художники. Эти самые люди «при искусстве» тогда и начинают разговоры об искусстве, когда у настоящего художника появляется ощущение свободного времени, отдыха. И они бьют прямо по больному месту: в те две-три минуты, когда художник забывает об этом искусстве, эти прихвостни искусства начинают разговор про Ван Гога, про Кафку, Чаплина или Беккета. Я готов руки на себя наложить в такие минуты: только мне удается выкинуть все из головы, думать лишь про нас с Мари, про пиво, про осенние листья, про игру в «братец-не-сердись», вообще про какую-нибудь чепуху, даже, может быть, пошловатую или сентиментальную, как тут же какой-нибудь Фредебойль или Зоммервильд начинают трепаться про искусство. Именно в ту минуту, когда я с невероятным восторгом чувствую себя абсолютно обыкновенным человеком, самым обыкновенным обывателем вроде Карла Эмондса, Фредебойль или Зоммервильд заводят разговор про Клоделя или Ионеско. С Мари тоже это случается, раньше это было реже, а в последнее время стало куда чаще. Заметил я это, когда рассказывал ей, что хочу начать петь песенки под гитару. Это задело, как она выразилась, ее эстетическое чувство. В то время как человек, не имеющий отношения к искусству, отдыхает, клоун работает. Все люди, от самого высокооплачиваемого директора до рядового рабочего, знают, что значит отдых, безразлично – пьет ли человек пиво или охотится на медведей на Аляске, коллекционирует ли он марки или картины импрессионистов или экспрессионистов, бесспорно лишь одно: кто коллекционирует произведения искусства, тот сам не художник. А меня может привести в ярость даже то, как человек, отдыхая, закуривает сигарету: слишком хорошо я знаю это ощущение и не могу не завидовать, когда оно длится долго. У клоуна тоже бывают такие минуты: можно вытянуть ноги, закурить и на какие-нибудь полсигареты ощутить, что значит отдых. Но так называемый отпуск для меня чистая погибель. Мари несколько раз пробовала показать мне, что это такое, мы уезжали к морю, на курорты, в горы, и я уже на второй день заболевал, покрывался сыпью с головы до ног, и мне переворачивали душу мысли о самоубийстве. Думаю, что заболевал я от зависти. Потом у Мари появилась чудовищная мысль провести со мной отдых там, куда ездят всякие художники. Но там, конечно, были главным образом люди «при искусстве», и я в первый же вечер подрался с одним идиотом – он какая-то важная шишка в кино и впутал меня в спор о Чаплине, Гроке и о функции шута в шекспировских драмах. Меня не только здорово отколотили (эти прихвостни искусства ухитряются неплохо жить на счет всяких искусствообразных профессий, но сами, в сущности, не работают, и сил у них хоть отбавляй), но к тому же у меня началась желтуха. А как только мы выбрались из этой гнусной дыры, я сразу выздоровел.
Что меня беспокоит больше всего – это мое неумение как-то себя ограничивать, или, как сказал бы мой импресарио Цонерер, сконцентрироваться. В моих номерах слишком перемешаны пантомима, артистизм, буффонада – я мог бы быть хорошим Пьеро, но я и неплохой клоун, – да к тому же я слишком часто меняю номера. Наверно, я мог бы годами с успехом жить на такие номера, как «Католическая и протестантская проповедь», «Заседание совета акционеров», «Уличное движение» и всякие другие, но стоит мне проделать номер раз десять-двадцать, мне становится до того скучно, что в самый разгар выступления на меня нападает зевота, и я с огромным усилием сдерживаю мускулы лица. Сам на себя нагоняю скуку. Когда подумаешь, что есть клоуны, которые лет тридцать показывают одни и те же номера, – такая тоска берет, словно меня приговорили съесть мешок муки чайной ложечкой. А мне работа должна доставлять удовольствие, не то я заболеваю. И вот вдруг я начинаю выдумывать, что мог бы неплохо жонглировать или петь песенки, но все это одна уловка, лишь бы не тренироваться каждый день. А это часа четыре, не меньше, а то и больше. В последние шесть недель я и это запустил, только проделаю два-три кульбита, похожу на руках, постою на голове да позанимаюсь гимнастикой на резиновом мате – я его всюду таскаю с собой, – вот и все. Ушибленное колено теперь для меня хороший предлог лежать на диване, курить, дышать жалостью к самому себе. Моя последняя новая пантомима – «Речь министра» – вышла очень неплохо, но мне не хотелось впадать в карикатуру, а в чем-то другом я недотянул. Все мои лирические попытки терпели крах. Мне еще никогда не удавалось изобразить человеческие чувства, не впадая в ужасающую сентиментальность. Правда, в моих номерах «Танцующая пара», «Уход в школу и возвращение» по крайней мере чувствовалось актерское мастерство. Но когда я попытался изобразить жизнь человека, я опять впал в карикатуру. Мари права, называя мои попытки петь песенки под гитару попытками уйти от себя. Лучше всего мне удается изображение всяких будничных несуразиц: я наблюдаю, слагаю эти наблюдения, возвожу их в степень, а потом извлекаю корень, но уже не с тем показателем, с каким возводил в степень. На каждый большой вокзал по утрам прибывают тысячи людей, работающих в городе, и уезжают тысячи, работающих за городом. Почему бы этим людям просто не обменяться работой? А возьмите вереницы автомашин – с какими мучениями они протискиваются навстречу друг другу в часы пик. Стоит только переменить работу или местожительство – и не будет ни бензиновой вони, ни отчаянной жестикуляции постовых на перекрестках; стало бы так тихо, что постовые могли бы играть в «братец-не-сердись». Из всех этих наблюдений я сделал пантомиму – у меня в ней работают только руки и ноги, а лицо, густо набеленное, не шевелится, и мне удается при помощи одних рук и ног создать впечатление невероятно многолюдного и запутанного движения. Моя цель – как можно меньше реквизита, лучше вообще ничего. Для номера «Уход в школу и возвращение» мне даже ранца не надо, я работаю рукой, и этого достаточно, я перебегаю улицу перед самым трамваем, который дает отчаянные звонки, прыгаю на автобусы, соскакиваю с них, задерживаюсь у витрин, пишу мелом на стенах слова с орфографическими ошибками, опаздываю, меня ругает учитель, и, сняв ранец с плеча, я тихонько прокрадываюсь за свою парту. Трогательность детского быта мне особенно удается: в жизни ребенка все обыденное, банальное разрастается до огромных размеров, кажется чуждым, беспорядочным, всегда трагичным. И настоящего отдыха у ребенка тоже не бывает: только когда в его жизнь входят «высшие моральные принципы», появляется отдых, свободное время. Я всегда с неостывающим азартом наблюдаю за тем, как люди отдыхают, наблюдаю за любыми проявлениями праздника, праздничного ощущения: как рабочий сует в карман конверт с получкой и садится на велосипед, как биржевик окончательно кладет телефонную трубку на рычаг, а записную книжку – в ящик стола, как он запирает этот ящик или как продавщица в продовольственном магазине снимает халат, моет руки, приводит в порядок перед зеркалом волосы, мажет губы, берет сумочку и уходит домой – все это так человечно, что я сам себе кажусь выродком, оттого что для меня этот праздничный вечер, этот отдых – только цирковой номер. Я как-то говорил с Мари: а бывает ли отдых у животных, например, у коровы, когда она пережевывает жвачку, или у осла, когда он дремлет у изгороди. Она сказала, что думать, будто животные тоже работают и у них тоже бывают праздники, – это кощунство. Конечно, сон – это отдых, праздник, и чудесно, что это объединяет людей и зверей, но ведь в празднике самое праздничное именно то, что его осознаешь как праздник. Даже у врачей есть праздники, а недавно отдых стал полагаться и священникам. Меня это раздражает, по-моему, им никакого отдыха не полагается, и они должны были бы хотя бы в этом сочувствовать артистам. Им вовсе не нужно разбираться в искусстве, в миссии художника, в предначертании и прочей ерунде, но природу артиста они понимать должны. Я всегда спорил с Мари, отдыхает ли Бог, в которого она верит. Она утверждала, что отдыхает, доставала Ветхий Завет и читала мне про Бога из книги Бытия: «И почил в день седьмой от всех дел Своих». А я возражал цитатами из Нового Завета, я ей доказывал, что, может быть, в Ветхом Завете Бог и отдыхал, но вот Христа на отдыхе я себе совсем не могу представить. Мари побледнела, когда я это сказал, но признала, что ей тоже кажется богохульством думать, будто у Христа может быть выходной день, и что у него, конечно, праздники бывали, но отдыхать он никогда не отдыхал.
Сплю я, как животное, почти всегда без снов, иногда просплю минут пять, а кажется, будто целый век отсутствовал, будто просунул голову сквозь стенку, за которой лежит беспредельная тьма, забвение, вечный отдых и то, о чем думала Генриетта, когда роняла вдруг ракетку на землю, ложку в суп или рывком швыряла карты в камин, – Ничто. Я ее как-то спросил, о чем она думает, когда на нее «находит». И она спросила:
– Неужели ты не знаешь?
– Нет, – сказал я.
И она тихо проговорила:
– Ни о чем, я думаю ни о чем.
Я сказал, что нельзя думать ни о чем, а она сказала:
– Нет, можно, я сразу делаюсь вся пустая и вместе с тем как будто пьяная, и мне хочется все с себя сбросить – башмаки, платье, остаться без всякого балласта.
Она еще сказала, что это изумительное состояние и она всегда ждет, когда оно наступит, но оно никогда не наступает, если ждать, а приходит неожиданно, и похоже оно на вечность. Раза два на нее «находило» в школе. Помню, как мама сердито говорила по телефону с классной наставницей и как она сказала: «Да, да, именно истерия, совершенно правильно, и накажите ее как следует».
Иногда и у меня появляется ощущение великолепной пустоты, во время игры в «братец-не-сердись», когда игра затягивается часа на три-четыре: ничего, кроме обычных шумов, постукивания костяшек, стука фигурок, щелканья, когда отбрасываешь фигурку. Мне удалось даже заставить Мари полюбить эту игру, хотя она больше склонялась к шахматам. Для нас эта игра стала чем-то вроде наркотика. Мы иногда играли подряд пять, а то и шесть часов, и официанты или горничные, которые приносили нам в номер чай или кофе, смотрели на нас с тем смешанным выражением страха и злобы, какое появлялось на лице моей матери, когда на Генриетту «находило»; иногда они говорили, как те люди в автобусе, когда я возвращался от Мари: «Невероятно!» Мари изобрела очень сложную систему очков: каждый получал очко, смотря по тому, на какой клеточке его выкинули или он выкинул партнера. Получалась очень интересная таблица, и я купил ей четырехцветный карандаш, чтобы удобнее было отмечать «активные и пассивные преимущества», как она это называла. Иногда мы играли во время долгих железнодорожных переездов, к удивлению серьезных пассажиров, пока я вдруг не заметил, что Мари играет со мной только для того, чтобы доставить мне удовольствие, успокоить меня, дать отдых моей «душе художника». Ее это уже не интересовало, все началось месяца два назад, когда я отказался ехать в Бонн. Я боялся членов ее кружка, боялся встретиться с Лео, но Мари непрестанно повторяла, что ей «необходимо вновь вдохнуть католическую атмосферу». Я напомнил ей, как мы возвращались тогда, после того первого вечера в их кружке, усталые, измученные, пришибленные, и как она все время повторяла в поезде: «Ты такой милый, такой милый!» А потом уснула у меня на плече и только изредка вздрагивала, когда на платформе выкрикивали названия станций: Зехтем, Вальберберг, Крюль, Кальшойрен, – вздрогнет, встрепенется, и я снова кладу ее голову себе на плечо, а когда мы вышли на Западном вокзале в Кёльне, она сказала: «Лучше бы мы пошли в кино». Я напомнил ей этот день, когда она заговорила о «католической атмосфере», которую ей необходимо вдохнуть, и предложил пойти в кино, потанцевать, поиграть в «братец-не-сердись», но она покачала головой и уехала в Бонн одна. Совершенно не представляю себе, что это такое – «католическая атмосфера». В конце концов, жили мы в Оснабрюкке, а там атмосфера вряд ли такая уж некатолическая.
XI
Я пошел в ванную комнату, налил в ванну немного экстракта, который мне поставила Моника Сильвс, и пустил горячую воду. Принимать ванну почти так же приятно, как спать, а спать – почти так же приятно, как заниматься «этим». Мари всегда так говорила, а я всегда думаю об «этом» ее словами. Совершенно не могу себе представить, что Мари может заниматься «этим» с Цюпфнером, у меня просто фантазии не хватает, так же как у меня никогда не возникало соблазна рыться в вещах Мари. Я только мог себе представить, как она играет с ним в «братец-не-сердись», – и одно это уже приводило меня в бешенство. Она ничего не может делать с ним из того, что мы с ней делали вместе, иначе она должна сама себе казаться шлюхой и предательницей. Даже мазать ему масло на хлеб она не смеет. А когда я себе представлял, что она берет его сигарету с пепельницы и докуривает ее, я просто сходил с ума, и даже то, что он некурящий и, наверно, играет с ней только в шахматы, меня ничуть не утешало. Ведь что-то она с ним все-таки делает: танцует, играет в карты, читает ему вслух или слушает, как он читает, да и разговаривать она с ним должна – хотя бы о деньгах, о погоде. Собственно говоря, она могла только готовить ему обед, не вспоминая меня на каждом шагу, – она так редко для меня готовила, что это, пожалуй, не будет ни предательством, ни распутством. Сейчас мне больше всего хотелось позвонить Зоммервильду, но было слишком рано: лучше всего позвонить часа в три ночи, разбудить его и завести пространный разговор об искусстве. А звонить ему в восемь вечера – слишком прилично, тут не спросишь, сколько высших моральных принципов он уже скормил Мари и какие комиссионные получил с Цюпфнера: наперсный крест тринадцатого века или среднерейнскую мадонну четырнадцатого? Думал я и о том, как я его прикончу. Эстетов, конечно, лучше всего убивать художественными ценностями, чтобы они и в предсмертную минуту возмутились таким надругательством. Статуэтка мадонны – штука, пожалуй, недостаточно ценная, да к тому же слишком прочная, и он, чего доброго, умрет, утешенный тем, что рама тяжелая, но тут он опять-таки утешился бы тем, что картина останется в целости. Пожалуй, я мог бы соскрести краску с ценной картины и повесить его на холсте или этим же холстом придушить – способ убийства довольно несовершенный, но как убийство эстета – совершенство! Вообще отправить на тот свет такого здоровяка и силача – дело нелегкое. Зоммервильд высокий, стройный, «воплощенное благообразие», седой, лицо «просветленное», кроме того, он альпинист и гордится тем, что принимал участие в двух мировых войнах и получил серебряную медаль за спортивные достижения. Противник он стойкий, хорошо тренированный. Что ж, придется раздобыть какое-нибудь произведение искусства из бронзы или из золота, а еще лучше, пожалуй, из мрамора; жаль, что мне не удастся съездить в Рим и спереть что-нибудь из ватиканского музея.
Пока наливалась ванна, я вспомнил Блотерта, одного из важных членов кружка, я видел его всего два раза. Он был, так сказать, противником Кинкеля «справа», тоже из политиканов, но из «другой среды, из другого круга», для него Цюпфнер был тем, чем Фредебойль был для Кинкеля: чем-то вроде «правой руки», ну и, конечно, «духовным наследником». Но звонить по телефону Блотерту было еще бессмысленней, чем умолять о помощи стены моей комнаты. Единственное, что вызывает в нем хоть какие-то признаки жизни, – это кинкелевские мадонны в стиле барокко. Он так их сравнивал со своими, что сразу было видно, до чего глубоко они ненавидят друг друга. Блотерт был председателем чего-то такого, где с удовольствием стал бы председателем сам Кинкель, и они со школьных лет были на «ты». Оба раза, что я встречал Блотерта, я пугался его. Он был среднего роста, светлый блондин, и с виду ему можно было дать лет двадцать пять; когда на него смотрели, он ухмылялся, а когда с ним заговаривали, он сначала с полминуты скрежетал зубами, и из четырех слов, которые он произносил, два были «канцлер» и «католон», и тут вдруг становилось видно, что ему за пятьдесят и выглядит он как постаревший от тайных пороков школьник последнего класса. Жуткая личность. Иногда его схватывала судорога, он начинал заикаться и говорить: «ка-ка-ка-ка…» – и мне его становилось жаль, пока он наконец не выдавливал из себя последние слоги – «…нцлер» или «…толон». Мари говорила мне, что он просто потрясающе умен. Это утверждение так и осталось недоказанным, и я только раз слыхал, как он произнес больше двадцати слов, это было, когда в их «кружке» обсуждали вопрос о смертной казни. Он был «за, без всяких ограничений», и удивило меня в его высказывании то, что он и не пытался лицемерно утверждать обратное. Он весь сиял от удовольствия, снова путался в своих «ка-ка-ка», и казалось, будто при каждом «ка» он отрубает кому-то голову. Иногда он косился на меня, и всегда с таким изумлением, будто ему каждый раз приходится сдерживаться, чтобы не сказать: «Невероятно!» – хотя он все же не мог удержаться и не покачать головой. По-моему, некатолики для него вообще пустое место. Мне всегда казалось, что, если введут смертную казнь, он будет ратовать за то, чтобы казнить всех некатоликов. У него тоже была жена, дети и телефон. Но я скорее позвонил бы опять моей матери. Блотерта я вспомнил только потому, что думал о Мари. Наверно, он постоянно к ней ходит, он был как-то связан с правлением, где работал Цюпфнер, и при одной мысли, что он у нее постоянный гость, мне становилось жутко. Ведь я к ней очень привязан, и когда она на прощанье, словно отправляясь в паломничество, сказала: «Я должна пойти тем путем, каким я должна идти», то это можно было бы понять и как последнее слово христианской мученицы, которую сейчас бросят на съедение диким зверям. Думал я и о Монике Сильвс, сознавая, что когда-нибудь я приму ее жалость. Она была такая красивая, такая милая, и мне казалось, что она еще меньше подходит к этому «кружку», чем Мари. Что бы она ни делала: возилась ли на кухне – я и ей как-то помогал делать бутерброды, – улыбалась ли, танцевала или рисовала, – все у нее выходило как-то естественно, хотя ее картины мне и не нравились. Зоммервильд слишком много наговорил ей про «откровение» и про миссию художника, и она стала писать одних мадонн. Можно было бы попытаться отговорить ее от этого: все равно толку не будет, даже если веришь и хорошо рисуешь. Пусть этих мадонн рисуют дети или набожные монахи, которые и художниками-то себя не считают. Я стал думать, удастся ли мне отговорить Монику от писания мадонн. Она не дилетантка, еще очень молода, ей года двадцать два – двадцать три, наверняка невинна, и это меня особенно пугало. Вдруг мелькнула страшная мысль: а что, если католики решили, чтобы я сыграл для них роль Зигфрида? Она прожила бы со мной года два, была бы ласкова, пока не начали бы действовать высшие моральные принципы, а тогда она вернулась бы в Бонн и вышла замуж за фон Северна. Я даже покраснел от этой мысли и постарался ее отогнать. Моника такая милая, что не хотелось выдумывать про нее всякие злые глупости. Но если мы с ней встретимся, надо будет прежде всего отучить ее от Зоммервильда, этого салонного льва, похожего на моего отца. Только мой отец не имеет никаких притязаний, кроме того, чтобы, по возможности, быть гуманным эксплуататором, и этим притязаниям он соответствует вполне. А Зоммервильд всегда производит впечатление, будто он с таким же успехом мог бы быть директором курзала или филармонии, начальником бюро информации на обувной фабрике, изысканным шансонье, даже, может быть, редактором «умело» поставленного модного журнала. Каждое воскресенье он читает проповедь в церкви Св. Корбиниана. Мари таскала меня туда дважды. Начальству Зоммервильда надо было бы запретить это представление – до того оно невыносимо. Лучше уж я сам буду читать Рильке, Гофмансталя и Ньюмена, чем позволять поить себя какой-то паточной смесью из всех троих. Меня даже пот прошиб во время этой проповеди. Есть такие противоестественные явления, которые для моей вегетативной нервной системы просто противопоказаны. Когда я слышу выражение: «Пусть сущее пребудет, а крылатое воспарит», мне становится страшно. Куда приятнее слушать, как беспомощный толстяк пастор, запинаясь, бормочет с кафедры непостижимые истины этой религии и не воображает, будто говорит так, что «хоть сейчас в печать». Мари огорчилась, увидев, что проповедь Зоммервильда не произвела на меня впечатления. Особенно мучительно было потом, когда мы после проповеди зашли в кафе, неподалеку от корбинианской церкви, там набилось полным-полно всяких людей «при искусстве», которые тоже слушали Зоммервильда. Потом пришел он сам, около него образовалось что-то вроде кружка, нас тоже втянули туда, и эту тягомотину, которую он нес с кафедры, стали пережевывать не раз, и не два, и не три. Прелестная актриса с длинными золотистыми локонами и ангельским личиком – Мари шепнула, что она уже «на три четверти обращена», – была готова целовать Зоммервильду ноги. Уверен, что он не протестовал бы.
Я открыл кран в ванной, снял куртку, стянул через голову верхнюю рубаху и белье, бросил все в угол и уже собрался влезть в ванну, как зазвонил телефон. Я знал только одного человека, в чьих руках телефон начинает звонить так бодро, так мужественно, – это Цонерер, мой агент. Он так близко и настойчиво кричит в трубку, что я всегда боюсь, как бы он меня не забрызгал слюной. Если он хочет сказать мне что-нибудь приятное, он начинает разговор так: «Вчера вы были просто великолепны». Говорит он это наобум, даже не зная, был ли я действительно великолепен или нет, а когда он хочет сказать неприятное, он обычно начинает так: «Слушайте, Шнир, вы, конечно, не Чаплин…» Этим он вовсе не хочет сказать, что я хуже Чаплина как клоун, а просто что я не настолько знаменит, чтобы позволять себе то, что раздражает его, Цонерера.