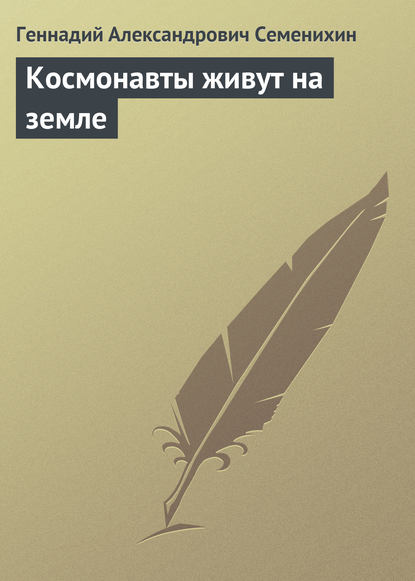По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Космонавты живут на земле
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Непонятное возбуждение владело Гореловым. Ему все еще мерещился матово-желтый свет термобарокамеры, голос Станислава Леонидовича звучал в ушах: «Не выдержали, Алексей Павлович…» «Ну и пусть! – ожесточенно решил Алеша. – Лучше сам сделаю вывод. Сам разрублю узел!» Он кинулся к письменному столу и на чистом листе бумаги неровными крупными буквами написал: «Рапорт». Перо авторучки быстро покрыло лист мелкими строчками. Но дописать Горелову не пришлось. Им овладело необыкновенная слабость. Алеша шагнул к постели и, бессильно на нее повалившись, тотчас же забылся в тяжелом непрошеном сне.
Он проснулся оттого, что кто-то сильно тряс его за плечо. Комната была наполнена прохладой раннего утра. За окном щебетали птицы. Алеша уже знал, что около семи часов этот щебет дружно, как по команде, смолкает. Он привстал с подушки и увидел над собой хмурое лицо майора Ножикова. Над темными его глазами сердито дыбились густые брови. Крупные губы были сердито сжаты, и все его выбритое, успевшее загореть лицо выражало осуждение.
– Сергей… вы? – протянул Алеша пораженно. – В этакую рань в моей квартире?
– Надо входную дверь на ночь закрывать, молодой человек, – сурово сказал Ножиков, – это во-первых. А во-вторых, что это за литературное произведение? – В толстых сильных пальцах майора вздрагивал листок, покрытый мелкими строчками. Медленно, с издевательскими паузами Ножиков прочел: – «Командиру отряда генерал-майору авиации Мочалову. Рапорт. Прошу меня отчислить из отряда летчиков-космонавтов и отправить в прежнюю летную часть. Вчерашнее испытание убедило меня в том, что для длительных сложных полетов в космическое пространство я не подхожу». – Ножиков отвел от себя листок и покачал головой. – Здорово написано, ничего не скажешь, и слог-то какой… Ни дать ни взять «Песнь о Гайавате» в переводе Ивана Бунина.
– Уж как сумел, – буркнул Горелов. Ему сделалось вдруг стыдно оттого, что вчерашний недописанный рапорт попал в руки другого человека. – Заглядывать в чужие письма тоже не следовало бы!
– Нет, следовало! – резко прервал его Ножиков и помахал перед лицом еще не проснувшегося окончательно Алексея листком бумаги. – Такое произведение – не только твое личное дело. Это всех нас касается, товарищ Горелов.
– Так вы пришли ко мне заседание партийного бюро проводить? – издевательски остановил его Алеша. – Тогда почему же без других его членов? Где же графин с водой? Протокол?
– Партийное бюро здесь ни при чем, – еще больше насупился Ножиков. – Я с тобой хочу по душам, как старший…
– Ах, по душам! – протянул Горелов. – Оказывается, заседания бюро не будет, а товарищ Ножиков прибыл ко мне на квартиру проводить, так сказать, индивидуальную работу, наставить на путь истинный заблудшую душу. Ну, давайте.
– Перестань кривляться! – угрожающе сказал Ножиков. – Представь на минуту, как ты будешь выглядеть, если этот рапорт прочтут все наши ребята. Давай поговорим серьезно.
– Серьезно! – зло воскликнул Алексей и стал быстро одеваться. – Давайте говорить серьезно, Сергей. Я не буду ссылаться на этот еще не до конца мною осмысленный и отредактированный рапорт. Я о другом – о вчерашнем испытании. Послушайте внимательно меня, Сергей, и постарайтесь понять. Зачем я рвался в отряд? Зачем отдавал всего себя для учебы и тренировок? Вы скажете – все это наивно сформулированные вопросы. Может быть, не спорю. Но служить космонавтике для меня – цель. Всего себя готов я отдать новому делу. И все шло гладко. А вот вчера…
– Что же вчера? – насмешливо спросил Ножиков и присел на стул.
– Вчера я понял, что не смогу стать настоящим космонавтом, – тихо признался Алеша.
– Почему?
– Испытание доказало, Сергей. Вчерашнее испытание. Я всю жизнь буду помнить Станислава Леонидовича, конструктора скафандров. Сколько в нем скромности и сердечности! Как он на меня надеялся, когда посадил в кресло испытателя в термобарокамере!
– Ну и что же? – смягчился майор.
– Как что! – горячо воскликнул Горелов. – Да разве вы еще не знаете позорных подробностей? Мне дали три режима. Последний, самый тяжелый, – испытание при низких температурах. Огромная цифра минусовой температуры, а сидеть всего несколько минут. Понимаете, несколько. И я не досидел, как ни крепился, не смог выдержать, потерял сознание. Это на земле, не отрываясь от нее ни на метр, когда вокруг тебя десятки людей, когда каждый твой вздох записывают десятки самописцев. А что же будет в космосе? Ведь если понадобится лететь к той же Луне, например, такую температуру нужно будет выдерживать часами! Так я же в ледяную мумию в скафандре превращусь, Сергей! Какой из меня, к черту, летчик-космонавт! – Он внезапно умолк и, горестно махнув рукой, договорил: – Или мне, как Славе Мирошникову, ждать, пока пройдут десятки медицинских обследований и медики вынесут приговор – в космонавты не годен! Зачем же, Сережа? Ведь я духом не пал, воля у меня еще есть, чтобы вернуться назад в кабину реактивного истребителя, хотя и горько все это.
Ножиков встал со стула, подошел к Горелову и положил ему руку на плечо. Темные глаза майора уже не сердито, а с доброй насмешкой заглянули старшему лейтенанту в лицо.
– Эх ты, Олеша, – произнес Ножиков, окая, – и как же тебе не совестно! Что же ты думал, дорога к старту для тебя розами будет усеяна, а? Первая осечка, и ты уже за рапорт взялся. Тебе разве кто-нибудь сказал, что вчерашнее испытание зачеркнуло тебя как космонавта?
– Не-ет, – протянул Алеша.
Ножиков подошел к столу, взял раскрытую, в пожелтевшем переплете книгу.
– Пока ты спал, я на этой странице один римский афоризм обнаружил: «Сделал что мог, и пусть кто может, сделает лучше». Так, по-моему, римские консулы говорили в древности, когда отчитывались и передавали власть другим.
– Разве плохо сказано? По-моему, блестяще.
– Блестяще, – согласился равнодушно Ножиков, – вот ты и решил последовать этому девизу. Раз не выдержал испытание – значит, надо уходить. Пусть, мол, другие пробуют. Шаткая логика. Ты – коммунист, Алеша, и должен помнить, что формула «сделал все что мог» для коммуниста неприемлема. Коммунисты делают и невозможное. Если бы не это, вряд ли была бы победа над фашизмом, атомная энергия, полет Гагарина и многое иное. А ты раскис. Я знаю детали вчерашнего испытания…
Горелов недоверчиво покосился на Ножикова. Простые слова Сергея, тихий его голос странно обезоруживали. И Алеше теперь хотелось только одного – чтобы Ножиков не уходил.
– Не твоя вина, что скафандр не выдержал критических температур. Но в том, что ты не нажал красную кнопку, когда стало не по себе, – виноват.
– Самолюбие, – опустив голову, признался Алеша. – думал, дотерплю.
– Это все закономерно, – улыбнулся Ножиков, – со многими так бывает. Самолюбие часто становится для космонавта препятствием. Надо уметь на него наступить и обезоружить самого себя, если необходимо. Тебе это еще не под силу. Вот и берешься за подобные рапорты. – Ножиков снова сел, положил на колени широкие ладони. – Нас в отряде немного, но почти у каждого были срывы и даже суровые испытания. Только воля да дружба помогали их выдерживать. Взять хотя бы Игоря Дремова. Ты знаешь Дремова?
– Полгода почти в одном отряде, как же не знать! – пожал плечами Горелов.
– Ну а что ты о нем знаешь?
– Как что? – неожиданно запнулся Алеша, потому что сам себя в это мгновение спросил: «А что я действительно о нем знаю?» – Игорь Дремов, – сбивчиво продолжал он, – сильный парень, немножко гордый. Помните, Сергей, мы же вместе на квартире у Дремова были, когда все рассказывали, как стали космонавтами, когда «большой сбор» проводился.
– И что же о себе рассказал тогда Игорь? – прищурился Ножиков.
Горелов поморщился.
– А он ничего не рассказал. Промолчал.
– Вот то-то и оно, – подтвердил Ножиков, – ты правильно сказал – гордый Игорь. И волевой, надо прибавить. Ему эта воля с детства понадобилась, если хочешь знать. Да садись, в ногах правды нет.
Горелов снова опустился на кровать. В раскрытом окне появилось заголубевшее от солнца небо, совсем не такое бледное, каким было несколько минут назад, когда Горелова будил Ножиков.
Медленный голос майора наполнял комнату:
– Отец Игоря, Игнат Дремов, с Котовским белых крошил. После гражданской два ромбика в петлицах носил – комдив. Военным округом командовал. Игорю не было и одиннадцати месяцев в тридцать седьмом году, когда к ним на квартиру ночью ворвались незнакомые люди в штатском, предявили ордер на арест и увезли отца. Это было в тридцать седьмом году. В газетах и по радио было объявлено, что он враг народа, японский шпион. Жена Игната Дремова, Роза Степановна, женщина молодая, красивая, потужила, потужила, да и вышла снова замуж за горного инженера Орлова. Отчим был умный, честный. Как только Игорь подрос, все ему рассказал. Когда Игоря привели записываться в школу, учитель спрашивает фамилию, мать говорит: «Орлов», а сам он брови сжал, губы стиснул и громко: «Дремов, а не Орлов». Мать на него: «Перестань глупить, отлуплю», а он снова: «Дремов, а не Орлов». Так и записали его в школу Дремовым, и никогда он не боялся этой фамилии, дрался за нее с мальчишками не раз, когда те начинали говорить про отца его плохо. В пятьдесят третьем отца посмертно реабилитировали. Игорь попал в отряд. Шел сначала в числе первых, но случилась с ним такая беда, что, если бы не воля и самообладание, не был бы он сейчас с нами.
– Что такое? – вырвалось у Горелова.
– Подожди, – осадил его Ножиков, – не суйся поперед батьки в пекло. На прыжках парашютных случилось. Мы с Ан-2 в заволжских степях прыгали. Дремов – парашютист что надо. С ним по красоте эволюций одна Женя Светлова может спорить. Точность приземления тоже у парня была высокая. Но в тот час, когда он прыгал, смерч прошел над степью. Игоря отнесло, он опустился на крутой склон оврага и при толчке поломал ноги. Здорово поломал. Три месяца лежал в госпитале на вытяжке. Будем прямо говорить, Алексей, не то чтобы он пал духом, но мысленно уже прощался со своей профессией. Так нам и сказал однажды: «Кто же меня теперь оставит в космонавтах?» Мы на него: «Да как ты смеешь, кто тебе дал право самому себе приговор выносить? Мы лучших врачей мобилизуем, у койки твоей сутками будем дежурить, все новости об отряде рассказывать. Но ты не имеешь права раскисать ни на секунду». Выслушал нас Игорь, губы сжал, по всему чувствуется, растрогали мы его. «Хорошо, ребята, – говорит, – больше не услышите от меня таких слов». Короче говоря, через полгода он снова у нас появился, потихоньку в строй начал входить. Наш бог физкультуры Баринов стал ему уже турник и брусья разрешать, пробежки небольшие, батут. Все шло гладко. И наконец позволили после перерыва вновь к парашютной подготовке приступить. Вместе с Карповым должен был прыгать Игорь. Погода что надо – ни ветра, ни дождя. Но штурман умудрился рассчитать точку приземления по прошлогодней карте. Получалось, что наши ребята должны были в конце аэродрома приземлиться. По карте все правильно, но ведь карта прошлогодняя. За это время на краю аэродрома дровяной склад выстроили с покатой крышей. И так случилось, что наши ребята должны были опуститься прямо на склад. Карпову повезло – у забора приземлился. А бедному Игорю пришлось садиться прямо на крышу. Когда до нее оставалось метров пять, он похолодел: «Вот это уже настоящий конец карьере космонавта! Теперь уже точно!» Собрал себя в комок, все что смог постарался сделать, чтобы ослабить удар. Опять же по римскому афоризму действовал: «Сделал что мог, пусть другие сделают лучше». Ударился, почувствовал боль, стал гасить купол. Встал на ноги – держат. Спустился с крыши на землю, снова упал, стараясь, чтобы на бок удар пришелся. Опять встал: шаг, второй, а перед глазами мурашки. «Когда же я упаду, – думает Игорь, – сейчас? Нет, на следующем шаге, на пятом, десятом». Себе не верит, что идет и ноги повинуются. Его на рентген – ни одной трещины. После этого Дремов всегда шутит: «Два раза не умирать. Я теперь на любую Венеру и Марс приземлюсь с парашютом». Вот какие у него кости!
Алеша слушал, не проронив ни одного слова.
– Это не кости, Сергей. Кости тут ни при чем, это – воля!
– Воля, говоришь? – захохотал Ножиков. – Так я же умышленно это слово опустил. Иначе ты опять бы сказал, что я тут партбюро провожу. На-ка, возьми лучше, – закончил Сергей, протягивая Алексею его рапорт.
Горелов взял рапорт, порвал его на клочки…
* * *
Горелов часто думал о том, как встретится с Юрием Гагариным. Но так случалось, что космонавт-1, наезжавший иногда по служебным делам в их отряд, появлялся здесь в те дни, когда Алексей или бывал на занятиях в академии, или на учебных полетах, в сурдокамере, или на вестибулярных тренировках. Однако встреча эта состоялась неожиданно и до крайности просто.
Ранним утром шел Горелов в штаб по широкой асфальтовой дорожке и у цветочной клумбы наткнулся на веселую группу людей. В центре с непокрытой головой стоял генерал Мочалов, рядом щурился на солнце замполит Нелидов. Их окружали космонавты, что-то наперебой рассказывавшие под одобрительные раскаты генеральского смеха. В центре группы Андрей Субботин совсем вольно обнимал крепко сложенного молодого полковника. Подошел Алексей, всем откозырял да так и ахнул: это же Гагарин! Удивительно солнечными были глаза первого космонавта, а на губах трепетала та самая «гагаринская» улыбка, которая столько раз была воспета на всех языках мира и только здесь, в городке космонавтов, среди своих, была такой по-домашнему простой. Андрей Субботин совсем фамильярно подергал Гагарина за локоть и, перекрывая голоса других, сказал:
– Юра, а вот это наш новенький. Старший лейтенант Горелов.
– А я знаю, – просто сказал знаменитый космонавт. – Но он настолько неуловим, что езжу, езжу, а застать не могу. Здравствуйте, Алексей Павлович. Рад с вами познакомиться.
– А уж меня и не спрашивайте о радости, Юрий Алексеевич! – воскликнул Горелов и потряс его руку.
Он проснулся оттого, что кто-то сильно тряс его за плечо. Комната была наполнена прохладой раннего утра. За окном щебетали птицы. Алеша уже знал, что около семи часов этот щебет дружно, как по команде, смолкает. Он привстал с подушки и увидел над собой хмурое лицо майора Ножикова. Над темными его глазами сердито дыбились густые брови. Крупные губы были сердито сжаты, и все его выбритое, успевшее загореть лицо выражало осуждение.
– Сергей… вы? – протянул Алеша пораженно. – В этакую рань в моей квартире?
– Надо входную дверь на ночь закрывать, молодой человек, – сурово сказал Ножиков, – это во-первых. А во-вторых, что это за литературное произведение? – В толстых сильных пальцах майора вздрагивал листок, покрытый мелкими строчками. Медленно, с издевательскими паузами Ножиков прочел: – «Командиру отряда генерал-майору авиации Мочалову. Рапорт. Прошу меня отчислить из отряда летчиков-космонавтов и отправить в прежнюю летную часть. Вчерашнее испытание убедило меня в том, что для длительных сложных полетов в космическое пространство я не подхожу». – Ножиков отвел от себя листок и покачал головой. – Здорово написано, ничего не скажешь, и слог-то какой… Ни дать ни взять «Песнь о Гайавате» в переводе Ивана Бунина.
– Уж как сумел, – буркнул Горелов. Ему сделалось вдруг стыдно оттого, что вчерашний недописанный рапорт попал в руки другого человека. – Заглядывать в чужие письма тоже не следовало бы!
– Нет, следовало! – резко прервал его Ножиков и помахал перед лицом еще не проснувшегося окончательно Алексея листком бумаги. – Такое произведение – не только твое личное дело. Это всех нас касается, товарищ Горелов.
– Так вы пришли ко мне заседание партийного бюро проводить? – издевательски остановил его Алеша. – Тогда почему же без других его членов? Где же графин с водой? Протокол?
– Партийное бюро здесь ни при чем, – еще больше насупился Ножиков. – Я с тобой хочу по душам, как старший…
– Ах, по душам! – протянул Горелов. – Оказывается, заседания бюро не будет, а товарищ Ножиков прибыл ко мне на квартиру проводить, так сказать, индивидуальную работу, наставить на путь истинный заблудшую душу. Ну, давайте.
– Перестань кривляться! – угрожающе сказал Ножиков. – Представь на минуту, как ты будешь выглядеть, если этот рапорт прочтут все наши ребята. Давай поговорим серьезно.
– Серьезно! – зло воскликнул Алексей и стал быстро одеваться. – Давайте говорить серьезно, Сергей. Я не буду ссылаться на этот еще не до конца мною осмысленный и отредактированный рапорт. Я о другом – о вчерашнем испытании. Послушайте внимательно меня, Сергей, и постарайтесь понять. Зачем я рвался в отряд? Зачем отдавал всего себя для учебы и тренировок? Вы скажете – все это наивно сформулированные вопросы. Может быть, не спорю. Но служить космонавтике для меня – цель. Всего себя готов я отдать новому делу. И все шло гладко. А вот вчера…
– Что же вчера? – насмешливо спросил Ножиков и присел на стул.
– Вчера я понял, что не смогу стать настоящим космонавтом, – тихо признался Алеша.
– Почему?
– Испытание доказало, Сергей. Вчерашнее испытание. Я всю жизнь буду помнить Станислава Леонидовича, конструктора скафандров. Сколько в нем скромности и сердечности! Как он на меня надеялся, когда посадил в кресло испытателя в термобарокамере!
– Ну и что же? – смягчился майор.
– Как что! – горячо воскликнул Горелов. – Да разве вы еще не знаете позорных подробностей? Мне дали три режима. Последний, самый тяжелый, – испытание при низких температурах. Огромная цифра минусовой температуры, а сидеть всего несколько минут. Понимаете, несколько. И я не досидел, как ни крепился, не смог выдержать, потерял сознание. Это на земле, не отрываясь от нее ни на метр, когда вокруг тебя десятки людей, когда каждый твой вздох записывают десятки самописцев. А что же будет в космосе? Ведь если понадобится лететь к той же Луне, например, такую температуру нужно будет выдерживать часами! Так я же в ледяную мумию в скафандре превращусь, Сергей! Какой из меня, к черту, летчик-космонавт! – Он внезапно умолк и, горестно махнув рукой, договорил: – Или мне, как Славе Мирошникову, ждать, пока пройдут десятки медицинских обследований и медики вынесут приговор – в космонавты не годен! Зачем же, Сережа? Ведь я духом не пал, воля у меня еще есть, чтобы вернуться назад в кабину реактивного истребителя, хотя и горько все это.
Ножиков встал со стула, подошел к Горелову и положил ему руку на плечо. Темные глаза майора уже не сердито, а с доброй насмешкой заглянули старшему лейтенанту в лицо.
– Эх ты, Олеша, – произнес Ножиков, окая, – и как же тебе не совестно! Что же ты думал, дорога к старту для тебя розами будет усеяна, а? Первая осечка, и ты уже за рапорт взялся. Тебе разве кто-нибудь сказал, что вчерашнее испытание зачеркнуло тебя как космонавта?
– Не-ет, – протянул Алеша.
Ножиков подошел к столу, взял раскрытую, в пожелтевшем переплете книгу.
– Пока ты спал, я на этой странице один римский афоризм обнаружил: «Сделал что мог, и пусть кто может, сделает лучше». Так, по-моему, римские консулы говорили в древности, когда отчитывались и передавали власть другим.
– Разве плохо сказано? По-моему, блестяще.
– Блестяще, – согласился равнодушно Ножиков, – вот ты и решил последовать этому девизу. Раз не выдержал испытание – значит, надо уходить. Пусть, мол, другие пробуют. Шаткая логика. Ты – коммунист, Алеша, и должен помнить, что формула «сделал все что мог» для коммуниста неприемлема. Коммунисты делают и невозможное. Если бы не это, вряд ли была бы победа над фашизмом, атомная энергия, полет Гагарина и многое иное. А ты раскис. Я знаю детали вчерашнего испытания…
Горелов недоверчиво покосился на Ножикова. Простые слова Сергея, тихий его голос странно обезоруживали. И Алеше теперь хотелось только одного – чтобы Ножиков не уходил.
– Не твоя вина, что скафандр не выдержал критических температур. Но в том, что ты не нажал красную кнопку, когда стало не по себе, – виноват.
– Самолюбие, – опустив голову, признался Алеша. – думал, дотерплю.
– Это все закономерно, – улыбнулся Ножиков, – со многими так бывает. Самолюбие часто становится для космонавта препятствием. Надо уметь на него наступить и обезоружить самого себя, если необходимо. Тебе это еще не под силу. Вот и берешься за подобные рапорты. – Ножиков снова сел, положил на колени широкие ладони. – Нас в отряде немного, но почти у каждого были срывы и даже суровые испытания. Только воля да дружба помогали их выдерживать. Взять хотя бы Игоря Дремова. Ты знаешь Дремова?
– Полгода почти в одном отряде, как же не знать! – пожал плечами Горелов.
– Ну а что ты о нем знаешь?
– Как что? – неожиданно запнулся Алеша, потому что сам себя в это мгновение спросил: «А что я действительно о нем знаю?» – Игорь Дремов, – сбивчиво продолжал он, – сильный парень, немножко гордый. Помните, Сергей, мы же вместе на квартире у Дремова были, когда все рассказывали, как стали космонавтами, когда «большой сбор» проводился.
– И что же о себе рассказал тогда Игорь? – прищурился Ножиков.
Горелов поморщился.
– А он ничего не рассказал. Промолчал.
– Вот то-то и оно, – подтвердил Ножиков, – ты правильно сказал – гордый Игорь. И волевой, надо прибавить. Ему эта воля с детства понадобилась, если хочешь знать. Да садись, в ногах правды нет.
Горелов снова опустился на кровать. В раскрытом окне появилось заголубевшее от солнца небо, совсем не такое бледное, каким было несколько минут назад, когда Горелова будил Ножиков.
Медленный голос майора наполнял комнату:
– Отец Игоря, Игнат Дремов, с Котовским белых крошил. После гражданской два ромбика в петлицах носил – комдив. Военным округом командовал. Игорю не было и одиннадцати месяцев в тридцать седьмом году, когда к ним на квартиру ночью ворвались незнакомые люди в штатском, предявили ордер на арест и увезли отца. Это было в тридцать седьмом году. В газетах и по радио было объявлено, что он враг народа, японский шпион. Жена Игната Дремова, Роза Степановна, женщина молодая, красивая, потужила, потужила, да и вышла снова замуж за горного инженера Орлова. Отчим был умный, честный. Как только Игорь подрос, все ему рассказал. Когда Игоря привели записываться в школу, учитель спрашивает фамилию, мать говорит: «Орлов», а сам он брови сжал, губы стиснул и громко: «Дремов, а не Орлов». Мать на него: «Перестань глупить, отлуплю», а он снова: «Дремов, а не Орлов». Так и записали его в школу Дремовым, и никогда он не боялся этой фамилии, дрался за нее с мальчишками не раз, когда те начинали говорить про отца его плохо. В пятьдесят третьем отца посмертно реабилитировали. Игорь попал в отряд. Шел сначала в числе первых, но случилась с ним такая беда, что, если бы не воля и самообладание, не был бы он сейчас с нами.
– Что такое? – вырвалось у Горелова.
– Подожди, – осадил его Ножиков, – не суйся поперед батьки в пекло. На прыжках парашютных случилось. Мы с Ан-2 в заволжских степях прыгали. Дремов – парашютист что надо. С ним по красоте эволюций одна Женя Светлова может спорить. Точность приземления тоже у парня была высокая. Но в тот час, когда он прыгал, смерч прошел над степью. Игоря отнесло, он опустился на крутой склон оврага и при толчке поломал ноги. Здорово поломал. Три месяца лежал в госпитале на вытяжке. Будем прямо говорить, Алексей, не то чтобы он пал духом, но мысленно уже прощался со своей профессией. Так нам и сказал однажды: «Кто же меня теперь оставит в космонавтах?» Мы на него: «Да как ты смеешь, кто тебе дал право самому себе приговор выносить? Мы лучших врачей мобилизуем, у койки твоей сутками будем дежурить, все новости об отряде рассказывать. Но ты не имеешь права раскисать ни на секунду». Выслушал нас Игорь, губы сжал, по всему чувствуется, растрогали мы его. «Хорошо, ребята, – говорит, – больше не услышите от меня таких слов». Короче говоря, через полгода он снова у нас появился, потихоньку в строй начал входить. Наш бог физкультуры Баринов стал ему уже турник и брусья разрешать, пробежки небольшие, батут. Все шло гладко. И наконец позволили после перерыва вновь к парашютной подготовке приступить. Вместе с Карповым должен был прыгать Игорь. Погода что надо – ни ветра, ни дождя. Но штурман умудрился рассчитать точку приземления по прошлогодней карте. Получалось, что наши ребята должны были в конце аэродрома приземлиться. По карте все правильно, но ведь карта прошлогодняя. За это время на краю аэродрома дровяной склад выстроили с покатой крышей. И так случилось, что наши ребята должны были опуститься прямо на склад. Карпову повезло – у забора приземлился. А бедному Игорю пришлось садиться прямо на крышу. Когда до нее оставалось метров пять, он похолодел: «Вот это уже настоящий конец карьере космонавта! Теперь уже точно!» Собрал себя в комок, все что смог постарался сделать, чтобы ослабить удар. Опять же по римскому афоризму действовал: «Сделал что мог, пусть другие сделают лучше». Ударился, почувствовал боль, стал гасить купол. Встал на ноги – держат. Спустился с крыши на землю, снова упал, стараясь, чтобы на бок удар пришелся. Опять встал: шаг, второй, а перед глазами мурашки. «Когда же я упаду, – думает Игорь, – сейчас? Нет, на следующем шаге, на пятом, десятом». Себе не верит, что идет и ноги повинуются. Его на рентген – ни одной трещины. После этого Дремов всегда шутит: «Два раза не умирать. Я теперь на любую Венеру и Марс приземлюсь с парашютом». Вот какие у него кости!
Алеша слушал, не проронив ни одного слова.
– Это не кости, Сергей. Кости тут ни при чем, это – воля!
– Воля, говоришь? – захохотал Ножиков. – Так я же умышленно это слово опустил. Иначе ты опять бы сказал, что я тут партбюро провожу. На-ка, возьми лучше, – закончил Сергей, протягивая Алексею его рапорт.
Горелов взял рапорт, порвал его на клочки…
* * *
Горелов часто думал о том, как встретится с Юрием Гагариным. Но так случалось, что космонавт-1, наезжавший иногда по служебным делам в их отряд, появлялся здесь в те дни, когда Алексей или бывал на занятиях в академии, или на учебных полетах, в сурдокамере, или на вестибулярных тренировках. Однако встреча эта состоялась неожиданно и до крайности просто.
Ранним утром шел Горелов в штаб по широкой асфальтовой дорожке и у цветочной клумбы наткнулся на веселую группу людей. В центре с непокрытой головой стоял генерал Мочалов, рядом щурился на солнце замполит Нелидов. Их окружали космонавты, что-то наперебой рассказывавшие под одобрительные раскаты генеральского смеха. В центре группы Андрей Субботин совсем вольно обнимал крепко сложенного молодого полковника. Подошел Алексей, всем откозырял да так и ахнул: это же Гагарин! Удивительно солнечными были глаза первого космонавта, а на губах трепетала та самая «гагаринская» улыбка, которая столько раз была воспета на всех языках мира и только здесь, в городке космонавтов, среди своих, была такой по-домашнему простой. Андрей Субботин совсем фамильярно подергал Гагарина за локоть и, перекрывая голоса других, сказал:
– Юра, а вот это наш новенький. Старший лейтенант Горелов.
– А я знаю, – просто сказал знаменитый космонавт. – Но он настолько неуловим, что езжу, езжу, а застать не могу. Здравствуйте, Алексей Павлович. Рад с вами познакомиться.
– А уж меня и не спрашивайте о радости, Юрий Алексеевич! – воскликнул Горелов и потряс его руку.