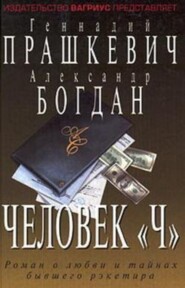По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Самые знаменитые поэты России
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Казалось, редакционная работа отнимала все силы поэта, к тому же очень больного, но именно в последние годы Некрасов написал едва ли не лучшие, и уж в любом случае самые объемные свои поэмы: «Дедушка». «Русские женщины», «Современники», книгу стихов «Последние песни», наконец, знаменитую поэму «Кому на Руси жить хорошо», начатую еще в шестидесятых. К сожалению, это огромное произведение так и осталось незавершенным, хотя именно незавершенность придает поэме какую-то странную особенность, даже загадочность. Неясная последовательность частей, разноречивые указания самого Некрасова об основном замысле поэмы, делает ее текучей, открытой, как сама жизнь, и в чем-то такой же неопределенной.
Годы идут, тяжелая болезнь все чаще укладывает поэта в постель.
Из далекого Вилюйска сосланный туда Чернышевский писал А. Н. Пыпину: «Если, когда ты получишь мое письмо, Некрасов еще будет продолжать дышать, скажи ему, что я горячо любил его как человека, что я благодарю за его доброе расположение ко мне, что я целую его, что я убежден: его слава будет бессмертна, что вечна любовь России к нему, гениальнейшему и благороднейшему из всех русских поэтов…»
Прозвучало письмо Чернышевского как некролог: 27 (8.I) декабря 1877 года Некрасов умер. «Громадная толпа, по крайней мере в три-четыре тысячи человек, – писали газеты, – сопровождала гроб поэта, который до самого кладбища был несен на руках. Большая часть этой толпы состояла из учащейся молодежи и литераторов. Кроме того, множество почитателей и поклонников покойного положительно всех званий и всякого состояния, не исключая и простых крестьян, шли за гробом народного поэта. По уверению старожилов, подобная многолюдна процессия была только на похоронах Крылова…»
Аполлон Николаевич Майков
О Боже! Ты даешь для родины моей
Тепло и урожай, дары святого неба, —
Но, хлебом золотя простор ее полей,
Ей также, Господи, духовного дай хлеба!
Родился 23 (4. VI) мая 1821 года в Москве.
Отец – известный художник. В богатом гостеприимном доме Майковых бывали Тургенев и Панаев, Плетнев и Бенедиктов, Григорович и Достоевский. Отец с удовольствием помогал сыновьям выпускать детский журнал «Подснежник», а наставлял их в литературе И. А. Гончаров, автор романа «Обломов».
В 1837 году Майков поступил в Петербургский университет. Незнание греческого языка не позволило ему заниматься на филологическом факультете, пришлось выбрать юридический. От занятий живописью, которой он всерьез увлекался, к этому времени пришлось отказаться из-за ухудшающегося зрения, зато поэзия захватывала его все больше. В 1840 году в «Одесском альманахе» даже появились два его стихотворения под лаконичным псевдонимом – М.
По окончанию университета Майкова зачислили на службу в департамент государственного казначейства. В 1842 году, на средства, отпущенные царским двором, он вместе с отцом отправился в Европу. Почти год прожил во Франции, в Германии, в Италии. Из Рима приезжал в Париж, чтобы слушать лекции в Сорбонне и в Колледж де Франс, в Риме устраивал вечера для живших там русских художников. «С удовольствием вспоминаю, – писал живописец В. Е. Раев, – о тех приятных вечерах. Юный поэт Майков услаждал в эти вечера всех присутствующих чтением прекраснейших своих стихотворений». Увлекшись идеями славянофилов, на обратном пути в Россию Майков останавливался в Праге, где общался с известными славистами В. Ганке и Шафариком.
В 1842 году вышел в свет первый сборник Майкова – «Стихотворения». («На днях получил „Стихотворения Аполлона Майкова“, – писал Плетнев филологу Я. К. Гроту. – Он учился у нас в университете. Эта книга меня усладила. Кажется, я читал идеи Дельвига, переданные стихами Пушкина».) В 1847 году – «Очерки Рима», стихи которого были навеяны Италией. Даже строгий Белинский сразу проникся прелестью антологических мотивов молодого поэта. Да и трудно было не заметить столь гармоничных стихов в эпоху, когда ушли Пушкин и Лермонтов, смолкли Языков и Баратынский, окончательно покинул Россию Жуковский, а новое поколение – А. Фет, А. Григорьев – еще только начинало путь.
В отличие от большинства русских поэтов – истинных пророков и апостолов, Майков никогда не знал ни бедности, ни каких-либо преследований. «Вся моя биография, – писал он, – не во внешних фактах, а в ходе и развитии внутренней жизни, в ходе расширения моего внутреннего горизонта, в укреплении взгляда на жизненные вопросы, нравственные, умственные, политические, во внутренней работе ума… Все прочее – вздор, труха, формуляр…»
В 1844 году Майков занял место помощника библиотекаря при Румянцевском музее, находившемся тогда в Петербурге. «С наступлением весны семья Майкова обычно перебиралась на дачу близ станции Сиверской Варшавской железной дороги, около 60 верст от Петербурга, – вспоминал литератор Е. Н. Опочинин. – Как известно, поэт был страстный рыболов и в Сиверскую привлекала его быстрая и говорливая речка Оредеж, стремящая свои прозрачные воды между крутыми красноглинистыми берегами. Здесь много укромных местечек было излюблено А. Н. Майковым, и многие часы на восходе и на закате солнца проводил он здесь с удочкою в руках…»
В 1852 году, после перевода Румянцевского музея в Москву, Майков перешел в Комитет иностранной цензуры. Здесь он проработал почти полвека, дослужившись до высокого чина действительного статского советника. Убежденный монархист, славянофил, законопослушник, он никогда не скрывал своих верноподданнических чувств. В годы Крымской кампании пел неумеренные хвалы Николаю I, позднее восторженными стихами откликнулся на чудесное спасение наследника (будущего императора Николая II), которого во время визита в Японию ударил саблей японский полицейский. Столь же восторженно принял Майков крестьянскую реформу 1861 года, спущенную сверху. Поэт Е. Щербина, с удивлением следивший за всеми этими движениями поэта, не мог удержаться от злых эпиграмм. «Он Булгарин в „Арлекине“, а в „Коляске“ Дубельт он, так исподличался ныне петербургский Аполлон». Сам Майков, впрочем, в письме к М. Златовратскому объяснял свои метания причинами простыми: «Около этого времени (1851) познакомился я с молодою редакцией „Москвитянина“, с Аполлоном Григорьевым, Островским, Писемским, Эдельсоном и с самим Погодиным, со славянофилами. Здесь показалось мне более правды, чем в западническом наклоне; не приняв кое-что из идей старых славянофилов, я не мог вполне принять их учения. Принял основы, почуяв в них историческую правду, но отверг выводы как фантастические и отвергающие историю, а с ней и целую российскую империю. На почве славянофилов, но с твердою идеей государства, и с полным признанием послепетровской истории были тогда Погодин и Катков: это цельно, это органически разумно, и это меня сблизило с ними…»
В 1882 году за философско-лирическую драму «Два мира» Академия наук удостоила Майкова Пушкинской премией. Стихотворение Майкова «Кто он?», посвященное Петру I, десятилетиями входило и, кажется, и сейчас входит во все школьные хрестоматии, как дореволюционного, так и советского периода. Думается, что многие помнят и другие хрестоматийные строки Майкова: «Золото, золото падает с неба!» – дети кричат и бегут за дождем… «Полноте, дети, его мы сберем, только сберем золотистым зерном в полных амбарах душистого хлеба!»
«Майков при мне читал только раз, – вспоминала З. Н. Гиппиус. – Он читал очень хорошо. Был сухой, тонкий, подобранный, красивый, с холодно-умными, пронзительными глазами. В чтении его была та же холодная пронзительность и усмешка. Особенно помнится она мне вот в этих двух строках (из стихотворения „Дож и догаресса“): «Слышит – иль не слышит? Спит – или не спит?». Удивительно читал он и «Три смерти»: «Простите, гордые мечтанья, осуществить я вас не мог. О, умираю я как Бог средь начатого мирозданья!». Конечно, Майков был самый талантливый из всей плеяды поэтов того времени. Какой-то одной, нежной, черточки не хватало его дарованию: оттого, вероятно, он и забыт был так скоро и никогда не был любим, как Фет, например, который, по-моему, куда ниже…»
Главным делом искусства Майков считал выявление прекрасного. Искусству, утверждал он, нет дела ни до чего низменного, только красота и любовь неподвластны тлению. Античные барельефы казались Майкову более рельефными, чем образы, возникающие из живой действительности. «Мы принадлежим к детству, – писал он, – которое не от мира сего. Царство толпы меняется, подчиненное моде и времени, а наше – вечно». Белинский не без удивления заметил однажды, что Майков как бы смотрит на жизнь глазами грека. «Прямые, седеющие, но еще с большой темнотой волосы его (Майкова) лежали непослушными прядками на голове, – вспоминал Опочинин, – вокруг щек с подбородком свисала и кругами вилась аккуратная бородка, из-за толстых очков смотрели пристально многодумные глаза. Все было просто и в то же время необычайно сложно в этой фигуре. Казалось, что такие люди попадаются на каждом шагу. Но стоило заговорить ему – и вы начинали думать, что Аполлон Николаевич Майков один на целом свете. В обращении его была какая-то сухость или, может быть, строгость, но это не отталкивало от него, а наоборот, привлекало, словно темный блеск старого золота. Какая-то значительность была в каждом его жесте, в каждом движении. Ни одно слово, срывавшееся с его губ, не могло замереть в воздухе, не приковав к себе вашего внимания. Мне казалось, что таковы именно были пророки и апостолы…»
Много лет Майков работал над грандиозной драмой о столкновении языческой и христианской цивилизаций, правда, выполнить успел только четыре части: драмы «Олинф и Эсфирь», «Три смерти», «Смерть Люция» и «Два мира».
Четыре года отдал Майков «Слову о полку Игореве».
Об особом отношении к этой древней русской поэме Майков признался в предисловии к переводу «Слову»: «Несмотря на семь веков, отделяющих нас от его певца, – писал он, – он (певец) чрезвычайно близок к нынешней нашей литературе. Его поэма точно зародыш, таящий в себе все лучшие качества последней. В этих образах князей Остромысла Галицкого, от престола которого грозы текут по землям, Всеволода Суздальского, что „мог бы Волгу веслами раскропити, а Дон шеломами вылити“, Романа, что в замыслах возносится широко, что Сокол ширяяся на ветрах, высматривая добычу, – слышится что-то родственное державинским изображениям Екатерининских орлов. В описании битв тоже. Во всем здоровом тоне поэмы, в этом кованном языке, на который древность наложила какую-то свою особую, вековую печать, в этой поэзии действительности – как бы чувствуется пушкинская стройность, определенность, сдержанность и меткость выражений. Далее эти описания природы, эта жизнь степи в ее мрачном виде, вся эта прелестная идиллия бегства Игоря, эти „дятлы тёктом путь к реке казуют“, вся речь Игоря к Донцу – как лелеял князя на серебряных берегах своих, – во всем этом таится как бы зародыш лучших страниц Тургенева… Чувствуется, несмотря на перерыв многих веков, один и тот же гений в творчестве лучших людей тогда и ныне…»
Литератор П. П. Перцов, хорошо знавший поэта, оставил живые записи о невысоком, сухощавом старике с худым лицом и длинными серебристыми волосами и бородой, который беспрерывно «…вскакивал, тушил и зажигал папиросы, и почти бегал вдоль стола и комнаты. Эта живость движений еще дополнялась ярким, молодым огнем прекрасных карих (хотя и полузакрытых очками) глаз. По этому впечатлению какой-то вечной юности Майкову, казалось бы, надо дожить до ста лет. Никогда, ни раньше, ни после, я не слыхал лучшего чтения. Он читал чрезвычайно просто, медленно и выразительно, и в то же время сохранял весь ритм и движение стиха».
Умер 8 (20) марта 1897 года в Петербурге.
Алексей Константинович Толстой
Средь шумного бала, случайно,
В тревоге мирской суеты,
Тебя я увидел, но тайна
Твои покрывала черты.
Лишь очи печально глядели,
А голос так дивно звучал,
Как звон отдаленной свирели,
Как моря играющий вал.
Мне стан твой понравился тонкий
И весь твой задумчивый вид;
А смех твой, и грустный и звонкий,
С тех пор в моем сердце звучит.
В часы одинокие ночи
Люблю я, усталый, прилечь —
Я вижу печальные очи,
Я слышу веселую речь;
И грустно я так засыпаю,
И в грезах неведомых сплю…
Люблю ли тебя – я не знаю,
Но кажется мне, что люблю!
Родился 24 (5. IX) августа 1817 года в Петербурге.
По матери – правнук Кирилла Разумовского, последнего гетмана Украины, президента Российской Академии наук, по отцу – потомок старинного известного рода. Детство провел в Черниговской губернии в имении матери Красный Рог, а затем ее брата А. А. Перовского, известного прозаика, выступавшего под псевдонимом Антон Погорельский. «Мое детство, – писал позже поэт, – было очень счастливо и оставило во мне одни только светлые воспоминания. Единственный сын, не имевший никаких товарищей для игр и наделенный весьма живым воображением, я очень рано привык к мечтательности, вскоре превратившейся в ярко выраженную склонность к поэзии. С шестилетнего возраста я начал марать бумагу и писать стихи – настолько поразили мое воображение произведения лучших наших поэтов, найденные мною в каком-то толстом, плохо отпечатанном и плохо сброшюрованном сборнике. Я упивался музыкой разнообразных ритмов и старался усвоить их технику. Мои первые опыты были, без сомнения, нелепы, но в метрическом отношении они отличались безупречностью».
В 1827 году с матерью и дядей побывал в Германии. Познакомился с Гёте, разговаривал с ним, даже получил подарок – обломок бивня мамонта, украшенный собственноручным рисунком поэта. В 1831 году много ездил по Италии, вел подробный художественный дневник. «В очень короткое время я научился отличать прекрасное от посредственного, выучил имена всех живописцев, всех скульпторов и почти мог соревноваться со знатоками в оценке картин и изваяний. При виде картины я мог всегда назвать живописца и почти никогда не ошибался».
В 1834 году Толстого определили «студентом» в Московский архив Министерства иностранных дел, где обычно начинали карьеру отпрыски самых известных российских родов, а через два года он был прикомандирован к русской дипломатической миссии во Франкфурте-на-Майне. Светский лев, красавец, остроумец, любитель веселья и бесконечных розыгрышей, тонкий ценитель искусства, Толстой и в Европе ни минуты не сидел без дела на месте, старался увидеть и услышать как можно больше. Всех этих качеств не потерял он и в России, когда в конце 1840 года его перевели во Второе отделение канцелярии Николая I, ведавшее вопросами законодательства. Дружеские отношения с великим князем Александром, будущим царем Александром II, позволили поэту сделать стремительную придворную карьеру: при царе Александре II он был уже флигель-адъютантом, а затем царским егермейстером.
В 1841 году отдельной книгой (под псевдонимом Краснорогский) вышла в свет фантастическая повесть Толстого «Упырь». Книгу заметили, казалось, автор должен был бы пытаться развить успех. «Писатель, чувствующий в себе искру поэтического таланта, – объяснял литературные особенности той эпохи Некрасов, – непременно раздувал бы ее сколько возможно, лелеял бы свой талант, как говорили в старину. Но поэту нашего времени этого мало. И, сознавая, что в наше время только поэтический талант, равный Пушкину, мог бы доставить автору и Славу и Деньги, он предпочитает распоряжаться иначе: поэтическую искру свою разводит на множество прозаических статей: он пишет повести, рецензии, фельетоны и, получая за них с журналистов хорошие деньги, без сожаления видит, как поэтическая его способность его с каждым годом уменьшается». К счастью, ни деньги, ни слава особенно не волновали Толстого. Охота, литературные вечера, светские балы занимали его время – он успевал всюду. «Коль любить, так без рассудку, коль грозить, так не на шутку, коль ругнуть, так сгоряча, коль рубнуть, так уж сплеча! Коли спорить, так уж смело, коль карать, так уж за дело, коль простить, так всей душой, коли пир, так пир горой!» Этот принцип действительно отвечал его характеру.
В январе 1851 года на балу Толстой познакомился с Софьей Андреевной Миллер, женой конногвардейского полковника Л. Ф. Миллера. Софье Андреевне посвящены самые сокровенные строки Толстого. То, что их встреча вовсе не случайна, они поняли сразу, но соединиться им удалось только через несколько лет, в 1858 году, поскольку муж Софьи Андреевны не хотел давать ей развода, а главное, против такого брака была настроена мать Толстого. «Анна Алексеевна, – писал А. М. Жемчужников, близкий друг и родственник Толстого, побывавший в Красном Роге у Толстых в 1852 году, – была очень рада видеть меня, и всею душою интересовалась узнать мое впечатление и мнение о Софье Андреевне, с которой сошелся ее сын и к которой серьезно и сильно привязался. Ее душа не только не сочувствовала той связи, но была глубоко возмущена и относилась с полным недоверием к искренности Софьи Андреевны. Не раз у меня, тайно от сына, были беседы об этом, и она, бедная, говорила, а слезы так и капали из глаз ее. Меня она обвиняла более всех, как человека самого близкого и наиболее любимого ее сыном и раньше моих братьев познакомившегося с Софьей Андреевной. Я стоял всею душою за Софью Андреевну и старался разубедить ее, но напрасно. Чутко материнское сердце… А что ж Алеша?… Он любил обеих, горевал, и душа его разрывалась на части. Никогда не забуду, как я сидел с ним на траве, в березняке, им насажанном: он говорил, страдая, и со слезами, о своем несчастии. Сколько в глазах его и словах выражалось любви к Софье Андреевне, которую он называл милой, талантливой, доброй, образованной, несчастной и с прекрасной душой. Его глубоко огорчало, что мать грустит, ревнует и предубеждена против Софьи Андреевны, несправедливо обвиняя ее в лживости и расчете. Такое обвинение, конечно, должно было перевернуть все существо доброго, честного и рыцарски благородного А. Толстого».
В 1854 году в журнале «Современник» впервые появились стихи писателя Козьмы Пруткова, скоро ставшего весьма популярным во всей России. Нелепую эту, но крайне привлекательную фигуру Толстой создал совместно с братьями Жемчужниковыми – Алексеем, Владимиром и Александром. О Жемчужниковых и Толстом ходили по столице самые фантастические слухи. То говорили, что это они под видом флигель-адъютантов объезжали ночью всех петербургских архитекторов со страшным сообщением, что Исаакиевский собор провалился; то в день коронации императора Александра II тайком выпрягли лошадей из кареты испанского посланника; то случайного прохожего, спросившего у них какой-то адрес, направили прямо на Пантелеймоновскую, 9, где находилось Жандармское отделение. Создавая фигуру писателя Кузьмы Пруткова, Толстой и Жемчужниковы не только сочинили все его стихи, басни и афоризмы, но и придумали оригинальную биографию, приложив к ней столь же оригинальный портрет. Козьма Прутков, сообщали друзья, родился 11 апреля 1792 года, в 1820 году был принят в один из лучших гусарских полков, но прослужил в нем лишь два с половиной года – «только для мундира»; в 1823 году – вышел в отставку и поступил на гражданскую службу по министерству финансов – в Пробирную палатку, где прослужил сорок лет, до самой смерти, последовавшей 13 января 1863 года.
В январе 1851 года Алексей Жемчужников записал в дневнике: «Государь Николай Павлович был на первом представлении „Фантазии“ (эта пьеса тоже входила в собрание сочинений Козьмы Пруткова). Эта пьеса шла в бенефис Максимова. Ни Толстой, ни я в театре не были. В этот вечер был какой-то бал, на который мы оба были приглашены и на котором быть следовало. В театре были: мать Толстого и мой отец с моими братьями. Воротясь с бала и любопытствуя знать: как прошла наша пьеса, я разбудил брата Льва и спросил его об этом. Он ответил, что пьесу публика зашикала и что государь в то время, когда собаки бегали по сцене во время грозы, встал со своего места с недовольным выражением в лице и уехал из театра. Услышавши это, я сейчас же написал письмо режиссеру Куликову, что, узнав о неуспехе нашей пьесы, я прошу снять ее с афиши и что я уверен в согласии с моим мнением графа Толстого, хотя и обращаюсь к нему с моей просьбой без предварительного с графом Толстым совещания. Это письмо я отдал Кузьме, прося снести его завтра пораньше к Куликову. На другой день я проснулся поздно, и ответ Куликова был уже получен. Он был короток. „Пьеса ваша и гр. Толстого уже запрещена по высочайшему повелению“.
«В произведении литературы я презираю всякую тенденцию, – писал Толстой Б. М. Маркевичу в декабре 1868 года. – Презираю ее, как пустую гильзу, тысяча чертей! Как раззяву у подножья фок-мачты, три тысячи проклятий! Я это говорил и повторял, возглашал и провозглашал!» И опять уже в письме к М. М. Стасюлевичу: «По мне, сохрани Бог от всякой задачи в искусстве, кроме задачи сделать хорошо. И от направления в литературе, сохрани Бог, как старого, так и от нового! Россини сказал: „В музыке есть только два рода, хороший и плохой“. То же можно сказать и о литературе». Странно, но при всем при этом стихи самого Толстого буквально насыщены были злобой дня. И это относится не только к сочинениям Козьмы Пруткова, но и к «Посланию М. Н. Лонгинову о дарвинизме», и к «Иоанну Дамаскину», и к «Сну Попова», и к «Истории государства Российского от Гостомысла до Тимашова», перемежающейся знаменитым рефреном: «Земля наша богата, порядка в ней лишь нет»…
В самом начале Крымской кампании Толстой и его друг князь А. П. Бобринский решили организовать специальный военный отряд, который помешал бы возможной высадке англичан на балтийском побережье. На свои средства закупили в Туле 80 дальнобойных винтовок, но, к счастью, они не пригодились. Точно так же не успела пригодиться друзьям быстроходная яхта, которую решено было приобрести для совершения каперских вылазок в море. Поняв, что война, как началась, так и закончится в Крыму, Толстой вступил майором в стрелковый полк, но и тут ему не повезло: под Одессой он тяжело заболел тифом. К счастью, крепкое от природы здоровье не подвело – поэт выжил. Сразу после войны он был произведен в подполковники и одновременно назначен делопроизводителем Секретного комитета о раскольниках. Однако все это совсем не привлекало Толстого. «Государь, – обратился он к императору, – служба, какова бы она ни была, глубоко противна моей натуре; знаю, что каждый должен в меру своих сил приносить пользу отечеству, но есть разные способы приносить пользу. Путь, указанный мне для этого провидением, – мое литературное дарование, и всякий иной путь для меня невозможен. Из меня всегда будет плохой военный и плохой чиновник, но, как мне кажется, я, не впадая в самомнение, могу сказать, что я хороший писатель».
В 1861 году Толстой вышел в отставку.
Жил он попеременно то в своем имении под Петербургом – Пустыньке, то в имении матери – на Черниговщине. Печатался и в либеральном журнале «Вестник Европы», и в противоположном ему по направлению проправительственном «Русском вестнике». В 1867 году вышел в свет единственный прижизненный сборник стихотворений Толстого. «Двух станов не боец, но только гость случайный, – писал он, – за правду я бы рад поднять мой добрый меч, но спор с обоими досель мне жребий тайный, и к клятве ни один не мог меня привлечь; союза полного не будет между нами – не купленный никем, под чье б ни стал я знамя, пристрастной ревности друзей не в силах снесть, я знамени врага отстаивал бы честь».
Большой известностью пользовался при жизни поэта его роман «Князь Серебряный». Драматическую трилогию составили драматические пьесы: «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», и «Царь Борис». А в январе 1884 года вышло в свет первое полное Собрание сочинений Пруткова в одной книге. По свидетельству современников, издание это исчезло из книжных лавок буквально за считанные дни.
В последние годы Толстой страдал сильным расстройством нервов. Еще недавно на охоте он выходил против медведя с ножом в руках, а теперь его мучили астма и ужасные головные боли. Не желая длить столь жалкое состояние, он принял пузырек морфия. Случилось это 28 (10. X) сентября 1875 года в любимом поэтом имении его матери Красном Роге.
Афанасий Афанасьевич Фет
Годы идут, тяжелая болезнь все чаще укладывает поэта в постель.
Из далекого Вилюйска сосланный туда Чернышевский писал А. Н. Пыпину: «Если, когда ты получишь мое письмо, Некрасов еще будет продолжать дышать, скажи ему, что я горячо любил его как человека, что я благодарю за его доброе расположение ко мне, что я целую его, что я убежден: его слава будет бессмертна, что вечна любовь России к нему, гениальнейшему и благороднейшему из всех русских поэтов…»
Прозвучало письмо Чернышевского как некролог: 27 (8.I) декабря 1877 года Некрасов умер. «Громадная толпа, по крайней мере в три-четыре тысячи человек, – писали газеты, – сопровождала гроб поэта, который до самого кладбища был несен на руках. Большая часть этой толпы состояла из учащейся молодежи и литераторов. Кроме того, множество почитателей и поклонников покойного положительно всех званий и всякого состояния, не исключая и простых крестьян, шли за гробом народного поэта. По уверению старожилов, подобная многолюдна процессия была только на похоронах Крылова…»
Аполлон Николаевич Майков
О Боже! Ты даешь для родины моей
Тепло и урожай, дары святого неба, —
Но, хлебом золотя простор ее полей,
Ей также, Господи, духовного дай хлеба!
Родился 23 (4. VI) мая 1821 года в Москве.
Отец – известный художник. В богатом гостеприимном доме Майковых бывали Тургенев и Панаев, Плетнев и Бенедиктов, Григорович и Достоевский. Отец с удовольствием помогал сыновьям выпускать детский журнал «Подснежник», а наставлял их в литературе И. А. Гончаров, автор романа «Обломов».
В 1837 году Майков поступил в Петербургский университет. Незнание греческого языка не позволило ему заниматься на филологическом факультете, пришлось выбрать юридический. От занятий живописью, которой он всерьез увлекался, к этому времени пришлось отказаться из-за ухудшающегося зрения, зато поэзия захватывала его все больше. В 1840 году в «Одесском альманахе» даже появились два его стихотворения под лаконичным псевдонимом – М.
По окончанию университета Майкова зачислили на службу в департамент государственного казначейства. В 1842 году, на средства, отпущенные царским двором, он вместе с отцом отправился в Европу. Почти год прожил во Франции, в Германии, в Италии. Из Рима приезжал в Париж, чтобы слушать лекции в Сорбонне и в Колледж де Франс, в Риме устраивал вечера для живших там русских художников. «С удовольствием вспоминаю, – писал живописец В. Е. Раев, – о тех приятных вечерах. Юный поэт Майков услаждал в эти вечера всех присутствующих чтением прекраснейших своих стихотворений». Увлекшись идеями славянофилов, на обратном пути в Россию Майков останавливался в Праге, где общался с известными славистами В. Ганке и Шафариком.
В 1842 году вышел в свет первый сборник Майкова – «Стихотворения». («На днях получил „Стихотворения Аполлона Майкова“, – писал Плетнев филологу Я. К. Гроту. – Он учился у нас в университете. Эта книга меня усладила. Кажется, я читал идеи Дельвига, переданные стихами Пушкина».) В 1847 году – «Очерки Рима», стихи которого были навеяны Италией. Даже строгий Белинский сразу проникся прелестью антологических мотивов молодого поэта. Да и трудно было не заметить столь гармоничных стихов в эпоху, когда ушли Пушкин и Лермонтов, смолкли Языков и Баратынский, окончательно покинул Россию Жуковский, а новое поколение – А. Фет, А. Григорьев – еще только начинало путь.
В отличие от большинства русских поэтов – истинных пророков и апостолов, Майков никогда не знал ни бедности, ни каких-либо преследований. «Вся моя биография, – писал он, – не во внешних фактах, а в ходе и развитии внутренней жизни, в ходе расширения моего внутреннего горизонта, в укреплении взгляда на жизненные вопросы, нравственные, умственные, политические, во внутренней работе ума… Все прочее – вздор, труха, формуляр…»
В 1844 году Майков занял место помощника библиотекаря при Румянцевском музее, находившемся тогда в Петербурге. «С наступлением весны семья Майкова обычно перебиралась на дачу близ станции Сиверской Варшавской железной дороги, около 60 верст от Петербурга, – вспоминал литератор Е. Н. Опочинин. – Как известно, поэт был страстный рыболов и в Сиверскую привлекала его быстрая и говорливая речка Оредеж, стремящая свои прозрачные воды между крутыми красноглинистыми берегами. Здесь много укромных местечек было излюблено А. Н. Майковым, и многие часы на восходе и на закате солнца проводил он здесь с удочкою в руках…»
В 1852 году, после перевода Румянцевского музея в Москву, Майков перешел в Комитет иностранной цензуры. Здесь он проработал почти полвека, дослужившись до высокого чина действительного статского советника. Убежденный монархист, славянофил, законопослушник, он никогда не скрывал своих верноподданнических чувств. В годы Крымской кампании пел неумеренные хвалы Николаю I, позднее восторженными стихами откликнулся на чудесное спасение наследника (будущего императора Николая II), которого во время визита в Японию ударил саблей японский полицейский. Столь же восторженно принял Майков крестьянскую реформу 1861 года, спущенную сверху. Поэт Е. Щербина, с удивлением следивший за всеми этими движениями поэта, не мог удержаться от злых эпиграмм. «Он Булгарин в „Арлекине“, а в „Коляске“ Дубельт он, так исподличался ныне петербургский Аполлон». Сам Майков, впрочем, в письме к М. Златовратскому объяснял свои метания причинами простыми: «Около этого времени (1851) познакомился я с молодою редакцией „Москвитянина“, с Аполлоном Григорьевым, Островским, Писемским, Эдельсоном и с самим Погодиным, со славянофилами. Здесь показалось мне более правды, чем в западническом наклоне; не приняв кое-что из идей старых славянофилов, я не мог вполне принять их учения. Принял основы, почуяв в них историческую правду, но отверг выводы как фантастические и отвергающие историю, а с ней и целую российскую империю. На почве славянофилов, но с твердою идеей государства, и с полным признанием послепетровской истории были тогда Погодин и Катков: это цельно, это органически разумно, и это меня сблизило с ними…»
В 1882 году за философско-лирическую драму «Два мира» Академия наук удостоила Майкова Пушкинской премией. Стихотворение Майкова «Кто он?», посвященное Петру I, десятилетиями входило и, кажется, и сейчас входит во все школьные хрестоматии, как дореволюционного, так и советского периода. Думается, что многие помнят и другие хрестоматийные строки Майкова: «Золото, золото падает с неба!» – дети кричат и бегут за дождем… «Полноте, дети, его мы сберем, только сберем золотистым зерном в полных амбарах душистого хлеба!»
«Майков при мне читал только раз, – вспоминала З. Н. Гиппиус. – Он читал очень хорошо. Был сухой, тонкий, подобранный, красивый, с холодно-умными, пронзительными глазами. В чтении его была та же холодная пронзительность и усмешка. Особенно помнится она мне вот в этих двух строках (из стихотворения „Дож и догаресса“): «Слышит – иль не слышит? Спит – или не спит?». Удивительно читал он и «Три смерти»: «Простите, гордые мечтанья, осуществить я вас не мог. О, умираю я как Бог средь начатого мирозданья!». Конечно, Майков был самый талантливый из всей плеяды поэтов того времени. Какой-то одной, нежной, черточки не хватало его дарованию: оттого, вероятно, он и забыт был так скоро и никогда не был любим, как Фет, например, который, по-моему, куда ниже…»
Главным делом искусства Майков считал выявление прекрасного. Искусству, утверждал он, нет дела ни до чего низменного, только красота и любовь неподвластны тлению. Античные барельефы казались Майкову более рельефными, чем образы, возникающие из живой действительности. «Мы принадлежим к детству, – писал он, – которое не от мира сего. Царство толпы меняется, подчиненное моде и времени, а наше – вечно». Белинский не без удивления заметил однажды, что Майков как бы смотрит на жизнь глазами грека. «Прямые, седеющие, но еще с большой темнотой волосы его (Майкова) лежали непослушными прядками на голове, – вспоминал Опочинин, – вокруг щек с подбородком свисала и кругами вилась аккуратная бородка, из-за толстых очков смотрели пристально многодумные глаза. Все было просто и в то же время необычайно сложно в этой фигуре. Казалось, что такие люди попадаются на каждом шагу. Но стоило заговорить ему – и вы начинали думать, что Аполлон Николаевич Майков один на целом свете. В обращении его была какая-то сухость или, может быть, строгость, но это не отталкивало от него, а наоборот, привлекало, словно темный блеск старого золота. Какая-то значительность была в каждом его жесте, в каждом движении. Ни одно слово, срывавшееся с его губ, не могло замереть в воздухе, не приковав к себе вашего внимания. Мне казалось, что таковы именно были пророки и апостолы…»
Много лет Майков работал над грандиозной драмой о столкновении языческой и христианской цивилизаций, правда, выполнить успел только четыре части: драмы «Олинф и Эсфирь», «Три смерти», «Смерть Люция» и «Два мира».
Четыре года отдал Майков «Слову о полку Игореве».
Об особом отношении к этой древней русской поэме Майков признался в предисловии к переводу «Слову»: «Несмотря на семь веков, отделяющих нас от его певца, – писал он, – он (певец) чрезвычайно близок к нынешней нашей литературе. Его поэма точно зародыш, таящий в себе все лучшие качества последней. В этих образах князей Остромысла Галицкого, от престола которого грозы текут по землям, Всеволода Суздальского, что „мог бы Волгу веслами раскропити, а Дон шеломами вылити“, Романа, что в замыслах возносится широко, что Сокол ширяяся на ветрах, высматривая добычу, – слышится что-то родственное державинским изображениям Екатерининских орлов. В описании битв тоже. Во всем здоровом тоне поэмы, в этом кованном языке, на который древность наложила какую-то свою особую, вековую печать, в этой поэзии действительности – как бы чувствуется пушкинская стройность, определенность, сдержанность и меткость выражений. Далее эти описания природы, эта жизнь степи в ее мрачном виде, вся эта прелестная идиллия бегства Игоря, эти „дятлы тёктом путь к реке казуют“, вся речь Игоря к Донцу – как лелеял князя на серебряных берегах своих, – во всем этом таится как бы зародыш лучших страниц Тургенева… Чувствуется, несмотря на перерыв многих веков, один и тот же гений в творчестве лучших людей тогда и ныне…»
Литератор П. П. Перцов, хорошо знавший поэта, оставил живые записи о невысоком, сухощавом старике с худым лицом и длинными серебристыми волосами и бородой, который беспрерывно «…вскакивал, тушил и зажигал папиросы, и почти бегал вдоль стола и комнаты. Эта живость движений еще дополнялась ярким, молодым огнем прекрасных карих (хотя и полузакрытых очками) глаз. По этому впечатлению какой-то вечной юности Майкову, казалось бы, надо дожить до ста лет. Никогда, ни раньше, ни после, я не слыхал лучшего чтения. Он читал чрезвычайно просто, медленно и выразительно, и в то же время сохранял весь ритм и движение стиха».
Умер 8 (20) марта 1897 года в Петербурге.
Алексей Константинович Толстой
Средь шумного бала, случайно,
В тревоге мирской суеты,
Тебя я увидел, но тайна
Твои покрывала черты.
Лишь очи печально глядели,
А голос так дивно звучал,
Как звон отдаленной свирели,
Как моря играющий вал.
Мне стан твой понравился тонкий
И весь твой задумчивый вид;
А смех твой, и грустный и звонкий,
С тех пор в моем сердце звучит.
В часы одинокие ночи
Люблю я, усталый, прилечь —
Я вижу печальные очи,
Я слышу веселую речь;
И грустно я так засыпаю,
И в грезах неведомых сплю…
Люблю ли тебя – я не знаю,
Но кажется мне, что люблю!
Родился 24 (5. IX) августа 1817 года в Петербурге.
По матери – правнук Кирилла Разумовского, последнего гетмана Украины, президента Российской Академии наук, по отцу – потомок старинного известного рода. Детство провел в Черниговской губернии в имении матери Красный Рог, а затем ее брата А. А. Перовского, известного прозаика, выступавшего под псевдонимом Антон Погорельский. «Мое детство, – писал позже поэт, – было очень счастливо и оставило во мне одни только светлые воспоминания. Единственный сын, не имевший никаких товарищей для игр и наделенный весьма живым воображением, я очень рано привык к мечтательности, вскоре превратившейся в ярко выраженную склонность к поэзии. С шестилетнего возраста я начал марать бумагу и писать стихи – настолько поразили мое воображение произведения лучших наших поэтов, найденные мною в каком-то толстом, плохо отпечатанном и плохо сброшюрованном сборнике. Я упивался музыкой разнообразных ритмов и старался усвоить их технику. Мои первые опыты были, без сомнения, нелепы, но в метрическом отношении они отличались безупречностью».
В 1827 году с матерью и дядей побывал в Германии. Познакомился с Гёте, разговаривал с ним, даже получил подарок – обломок бивня мамонта, украшенный собственноручным рисунком поэта. В 1831 году много ездил по Италии, вел подробный художественный дневник. «В очень короткое время я научился отличать прекрасное от посредственного, выучил имена всех живописцев, всех скульпторов и почти мог соревноваться со знатоками в оценке картин и изваяний. При виде картины я мог всегда назвать живописца и почти никогда не ошибался».
В 1834 году Толстого определили «студентом» в Московский архив Министерства иностранных дел, где обычно начинали карьеру отпрыски самых известных российских родов, а через два года он был прикомандирован к русской дипломатической миссии во Франкфурте-на-Майне. Светский лев, красавец, остроумец, любитель веселья и бесконечных розыгрышей, тонкий ценитель искусства, Толстой и в Европе ни минуты не сидел без дела на месте, старался увидеть и услышать как можно больше. Всех этих качеств не потерял он и в России, когда в конце 1840 года его перевели во Второе отделение канцелярии Николая I, ведавшее вопросами законодательства. Дружеские отношения с великим князем Александром, будущим царем Александром II, позволили поэту сделать стремительную придворную карьеру: при царе Александре II он был уже флигель-адъютантом, а затем царским егермейстером.
В 1841 году отдельной книгой (под псевдонимом Краснорогский) вышла в свет фантастическая повесть Толстого «Упырь». Книгу заметили, казалось, автор должен был бы пытаться развить успех. «Писатель, чувствующий в себе искру поэтического таланта, – объяснял литературные особенности той эпохи Некрасов, – непременно раздувал бы ее сколько возможно, лелеял бы свой талант, как говорили в старину. Но поэту нашего времени этого мало. И, сознавая, что в наше время только поэтический талант, равный Пушкину, мог бы доставить автору и Славу и Деньги, он предпочитает распоряжаться иначе: поэтическую искру свою разводит на множество прозаических статей: он пишет повести, рецензии, фельетоны и, получая за них с журналистов хорошие деньги, без сожаления видит, как поэтическая его способность его с каждым годом уменьшается». К счастью, ни деньги, ни слава особенно не волновали Толстого. Охота, литературные вечера, светские балы занимали его время – он успевал всюду. «Коль любить, так без рассудку, коль грозить, так не на шутку, коль ругнуть, так сгоряча, коль рубнуть, так уж сплеча! Коли спорить, так уж смело, коль карать, так уж за дело, коль простить, так всей душой, коли пир, так пир горой!» Этот принцип действительно отвечал его характеру.
В январе 1851 года на балу Толстой познакомился с Софьей Андреевной Миллер, женой конногвардейского полковника Л. Ф. Миллера. Софье Андреевне посвящены самые сокровенные строки Толстого. То, что их встреча вовсе не случайна, они поняли сразу, но соединиться им удалось только через несколько лет, в 1858 году, поскольку муж Софьи Андреевны не хотел давать ей развода, а главное, против такого брака была настроена мать Толстого. «Анна Алексеевна, – писал А. М. Жемчужников, близкий друг и родственник Толстого, побывавший в Красном Роге у Толстых в 1852 году, – была очень рада видеть меня, и всею душою интересовалась узнать мое впечатление и мнение о Софье Андреевне, с которой сошелся ее сын и к которой серьезно и сильно привязался. Ее душа не только не сочувствовала той связи, но была глубоко возмущена и относилась с полным недоверием к искренности Софьи Андреевны. Не раз у меня, тайно от сына, были беседы об этом, и она, бедная, говорила, а слезы так и капали из глаз ее. Меня она обвиняла более всех, как человека самого близкого и наиболее любимого ее сыном и раньше моих братьев познакомившегося с Софьей Андреевной. Я стоял всею душою за Софью Андреевну и старался разубедить ее, но напрасно. Чутко материнское сердце… А что ж Алеша?… Он любил обеих, горевал, и душа его разрывалась на части. Никогда не забуду, как я сидел с ним на траве, в березняке, им насажанном: он говорил, страдая, и со слезами, о своем несчастии. Сколько в глазах его и словах выражалось любви к Софье Андреевне, которую он называл милой, талантливой, доброй, образованной, несчастной и с прекрасной душой. Его глубоко огорчало, что мать грустит, ревнует и предубеждена против Софьи Андреевны, несправедливо обвиняя ее в лживости и расчете. Такое обвинение, конечно, должно было перевернуть все существо доброго, честного и рыцарски благородного А. Толстого».
В 1854 году в журнале «Современник» впервые появились стихи писателя Козьмы Пруткова, скоро ставшего весьма популярным во всей России. Нелепую эту, но крайне привлекательную фигуру Толстой создал совместно с братьями Жемчужниковыми – Алексеем, Владимиром и Александром. О Жемчужниковых и Толстом ходили по столице самые фантастические слухи. То говорили, что это они под видом флигель-адъютантов объезжали ночью всех петербургских архитекторов со страшным сообщением, что Исаакиевский собор провалился; то в день коронации императора Александра II тайком выпрягли лошадей из кареты испанского посланника; то случайного прохожего, спросившего у них какой-то адрес, направили прямо на Пантелеймоновскую, 9, где находилось Жандармское отделение. Создавая фигуру писателя Кузьмы Пруткова, Толстой и Жемчужниковы не только сочинили все его стихи, басни и афоризмы, но и придумали оригинальную биографию, приложив к ней столь же оригинальный портрет. Козьма Прутков, сообщали друзья, родился 11 апреля 1792 года, в 1820 году был принят в один из лучших гусарских полков, но прослужил в нем лишь два с половиной года – «только для мундира»; в 1823 году – вышел в отставку и поступил на гражданскую службу по министерству финансов – в Пробирную палатку, где прослужил сорок лет, до самой смерти, последовавшей 13 января 1863 года.
В январе 1851 года Алексей Жемчужников записал в дневнике: «Государь Николай Павлович был на первом представлении „Фантазии“ (эта пьеса тоже входила в собрание сочинений Козьмы Пруткова). Эта пьеса шла в бенефис Максимова. Ни Толстой, ни я в театре не были. В этот вечер был какой-то бал, на который мы оба были приглашены и на котором быть следовало. В театре были: мать Толстого и мой отец с моими братьями. Воротясь с бала и любопытствуя знать: как прошла наша пьеса, я разбудил брата Льва и спросил его об этом. Он ответил, что пьесу публика зашикала и что государь в то время, когда собаки бегали по сцене во время грозы, встал со своего места с недовольным выражением в лице и уехал из театра. Услышавши это, я сейчас же написал письмо режиссеру Куликову, что, узнав о неуспехе нашей пьесы, я прошу снять ее с афиши и что я уверен в согласии с моим мнением графа Толстого, хотя и обращаюсь к нему с моей просьбой без предварительного с графом Толстым совещания. Это письмо я отдал Кузьме, прося снести его завтра пораньше к Куликову. На другой день я проснулся поздно, и ответ Куликова был уже получен. Он был короток. „Пьеса ваша и гр. Толстого уже запрещена по высочайшему повелению“.
«В произведении литературы я презираю всякую тенденцию, – писал Толстой Б. М. Маркевичу в декабре 1868 года. – Презираю ее, как пустую гильзу, тысяча чертей! Как раззяву у подножья фок-мачты, три тысячи проклятий! Я это говорил и повторял, возглашал и провозглашал!» И опять уже в письме к М. М. Стасюлевичу: «По мне, сохрани Бог от всякой задачи в искусстве, кроме задачи сделать хорошо. И от направления в литературе, сохрани Бог, как старого, так и от нового! Россини сказал: „В музыке есть только два рода, хороший и плохой“. То же можно сказать и о литературе». Странно, но при всем при этом стихи самого Толстого буквально насыщены были злобой дня. И это относится не только к сочинениям Козьмы Пруткова, но и к «Посланию М. Н. Лонгинову о дарвинизме», и к «Иоанну Дамаскину», и к «Сну Попова», и к «Истории государства Российского от Гостомысла до Тимашова», перемежающейся знаменитым рефреном: «Земля наша богата, порядка в ней лишь нет»…
В самом начале Крымской кампании Толстой и его друг князь А. П. Бобринский решили организовать специальный военный отряд, который помешал бы возможной высадке англичан на балтийском побережье. На свои средства закупили в Туле 80 дальнобойных винтовок, но, к счастью, они не пригодились. Точно так же не успела пригодиться друзьям быстроходная яхта, которую решено было приобрести для совершения каперских вылазок в море. Поняв, что война, как началась, так и закончится в Крыму, Толстой вступил майором в стрелковый полк, но и тут ему не повезло: под Одессой он тяжело заболел тифом. К счастью, крепкое от природы здоровье не подвело – поэт выжил. Сразу после войны он был произведен в подполковники и одновременно назначен делопроизводителем Секретного комитета о раскольниках. Однако все это совсем не привлекало Толстого. «Государь, – обратился он к императору, – служба, какова бы она ни была, глубоко противна моей натуре; знаю, что каждый должен в меру своих сил приносить пользу отечеству, но есть разные способы приносить пользу. Путь, указанный мне для этого провидением, – мое литературное дарование, и всякий иной путь для меня невозможен. Из меня всегда будет плохой военный и плохой чиновник, но, как мне кажется, я, не впадая в самомнение, могу сказать, что я хороший писатель».
В 1861 году Толстой вышел в отставку.
Жил он попеременно то в своем имении под Петербургом – Пустыньке, то в имении матери – на Черниговщине. Печатался и в либеральном журнале «Вестник Европы», и в противоположном ему по направлению проправительственном «Русском вестнике». В 1867 году вышел в свет единственный прижизненный сборник стихотворений Толстого. «Двух станов не боец, но только гость случайный, – писал он, – за правду я бы рад поднять мой добрый меч, но спор с обоими досель мне жребий тайный, и к клятве ни один не мог меня привлечь; союза полного не будет между нами – не купленный никем, под чье б ни стал я знамя, пристрастной ревности друзей не в силах снесть, я знамени врага отстаивал бы честь».
Большой известностью пользовался при жизни поэта его роман «Князь Серебряный». Драматическую трилогию составили драматические пьесы: «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», и «Царь Борис». А в январе 1884 года вышло в свет первое полное Собрание сочинений Пруткова в одной книге. По свидетельству современников, издание это исчезло из книжных лавок буквально за считанные дни.
В последние годы Толстой страдал сильным расстройством нервов. Еще недавно на охоте он выходил против медведя с ножом в руках, а теперь его мучили астма и ужасные головные боли. Не желая длить столь жалкое состояние, он принял пузырек морфия. Случилось это 28 (10. X) сентября 1875 года в любимом поэтом имении его матери Красном Роге.
Афанасий Афанасьевич Фет