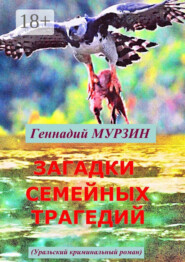По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Разноцветье детства. Рассказы, сказки, очерки, новеллы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Даже пирожных со сливками не было?
– Какие, голуба душа, пирожные, тем более, со сливками? Даже хлеба ржаного не всегда хватало… Впрочем, рассказ не об этом… Так вот… Седьмого января (воскресенье было) грянул хороший такой морозец. Одевшись потеплее, то есть натянув на себя все, что попало под руку, вышел во двор. Взяв за головку прислоненные к крыльцу деревянные салазки…
– А что такое, дедуль, «салазки»?
– Не знаю, как тебе объяснить… Ну, такие самодельные деревянные маленькие санки… Были большие сани, в которые лошадь запрягали, а были их маленькие копии… Мы из тогда называли не санками, а салазками. Мы на них хворост из леса возили, чтобы камин дома топить.
– Это, дедуль, как у Некрасова: лошадка, везущая хворосту воз. Так, да?
– С той лишь разницей, что у поэта на лошадке все-таки хворост возили, а мы сами, запрягшись, волокли. Под гору – ничего, а вот в гору… Тяжело… Семь потов сойдет.
– А мы, дедуль, на даче камин березовыми поленьями топим. И… у нас никакого хвороста нет.
– Сейчас – так, а в мое детство…
– Дедуль, разве хворост плоше дров?
– Нет слов…
– Дедуль, а из чего делался хворост?
– Хворост, голуба душа, это сучья от спиленного дерева.
– А-а-а… Почему сейчас нет хвороста?
– Его за ненадобностью сжигают прямо на лесной делянке.
– Просто так сжигают?
– Да. Чтобы делянку не засорять.
– А-а-а…
– Так вот… Взяв за головку прислоненные к крыльцу деревянные салазки, вышел на деревенскую улицу. Дома стояли только по одной стороне и домов этих было не больше пятидесяти. На другой стороне улицы начинался очень глубокий и крутой овраг, в самом низу его стояли вековые ели. Любимое детское занятие в Рождество, а других не было, – скатываться на салазках вниз. Так, бывало, мчишься, что дух захватывает.
– Круто! – Представив себе, восхищенно сказала девочка и тряхнула головой.
– Но страшно, а поэтому и нравились нам спуски: лихачили, друг перед другом бойчились. Кому захочется показаться трусом?
– Дедуль, знаешь… Я бы… ну… это…
Олег Васильевич понял внучку. Улыбнувшись, заметил:
– Вот визгу-то бы было.
– Дедуль, я чуть-чуть только трусиха.
Старик, притянув девочку, поцеловал:
– Чуть-чуть – это Маришенька, не считается.
– И я девочка…
– Тем более…
Маришка затормошила дедушку.
– Что дальше-то было, а?
– Стою, значит, на улице. Мороз цапает за нос, а мне ничего. Тут вижу: в мою сторону бежит дружок, одногодок Сережка, живущий за три дома от меня, и руками размахивает. Понятно: хочет присоседиться; у него-то нет салазок таких.
– Фи! Пошел бы и купил.
– Откуда деньги, голуба душа? У тогдашних колхозников сроду их не было.
– Как это, дедуль? Кто работает, тот денежку получает.
– Только не в колхозе… Работали за палочки, то есть за трудодни. Если в поле с утра до ночи, то бригадир начисляет полтрудодня; если на ферме, то целый трудодень, а то и полтора… Ладно, Мариш… Будет об этом… Вот… Санки-то небольшие… Вдвоем тесновато… Но ничего… Другу как отказать? Друг, значит, впереди, вплотную к головке салазок, а я за ним, за спиной Сережки. Из-за него впереди мне ничего не видно, поэтому рулит, то есть следит и направляет, Сережка. Один раз съехали, все нормально. Потом второй и третий раз. Весело нам. Хохочем.
Маринка спрашивает:
– Одни, что ли катались?
– Нет… Были и другие мальчишки. Для того и рулевой нужен был, чтобы не налететь, не сбить кого-нибудь. Выбравшись в очередной раз из оврага, решил, что пора домой. Сережка стал упрашивать: давай, мол, еще раз спустимся. Разохотился. Сдался, потому что и самому не хотелось особо-то домой. И вот летим. Сережка, как обычно, широко расшеперил, держа на весу, свои ноги. Я также держу на весу ноги, чтобы они не мешали набору скорости при спуске, но параллельно салазкам. Хорошо, как никогда, мчимся. И тут вдруг обе мои ноги со всего маху ударяются во что-то. В глазах – синенькие, зелененькие круги, туман. И страшная боль. Оказалось: Сережка прошляпил, не отворотил в сторону, и мы ударились в преогромный ствол ели. Сережке-то ничего: легким испугом отделался…
– А ты, дедуль?..
– Мне не повезло, голуба душа.
– Как это? Ты же сзади сидел.
– То-то и оно, что сзади! Салазки-то маленькие. Мои ноги находились впереди головки и удар пришелся по ним… Сгоряча попробовал встать, но не смог. С трудом наверх пополз, а Сережка потащил салазки. Кое-как вылез. Там снова попробовал встать. Не получилось. На ровном-то месте дружок смог меня до дома довезти. Там тихонько, чтобы мать не увидела, заполз в дом, превозмогая боль в ногах, кое-как взобрался сначала на печку, а потом и на полати.
Маринка, нахмурившись, спросила:
– Почему не в больницу?
– Ну, знаешь ли… Никакой больницы в деревне не было.
– Вообще?!
Олег Васильевич кивнул и тяжело вздохнул.
– Такое вот Рождество у меня случилось.
– А что, дедуль, потом было?
– Лежу, не шелохнувшись, на полатях час, другой, третий, а дикая боль в ногах не проходит. Вечер. С полатей вижу, что мама собирает ужин на стол. Мама зовет. Говорю, что не хочу есть. Мама отступает. Я облегченно вздыхаю. Боязно признаться в том, что со мной случилось. Ночь промаялся. На другой день мама говорит мне, чтобы сходил за водой. Какая вода, если ногами пошевелить не могу? Мама думает, что я не слышал, поэтому повторяет. Только тут я признась, что не ходок. Пришлось рассказать все, что со мной случилось. Мама забралась на полати, осмотрела ноги. Увидев, что они распухли и посинели, ахнула. Тут же стащила меня вниз, одела, вынесла во двор, посадила в салазки и повезла к бабке-знахарке. Та осмотрела, ощупала и заключила: переломов костей нет.
– Какие, голуба душа, пирожные, тем более, со сливками? Даже хлеба ржаного не всегда хватало… Впрочем, рассказ не об этом… Так вот… Седьмого января (воскресенье было) грянул хороший такой морозец. Одевшись потеплее, то есть натянув на себя все, что попало под руку, вышел во двор. Взяв за головку прислоненные к крыльцу деревянные салазки…
– А что такое, дедуль, «салазки»?
– Не знаю, как тебе объяснить… Ну, такие самодельные деревянные маленькие санки… Были большие сани, в которые лошадь запрягали, а были их маленькие копии… Мы из тогда называли не санками, а салазками. Мы на них хворост из леса возили, чтобы камин дома топить.
– Это, дедуль, как у Некрасова: лошадка, везущая хворосту воз. Так, да?
– С той лишь разницей, что у поэта на лошадке все-таки хворост возили, а мы сами, запрягшись, волокли. Под гору – ничего, а вот в гору… Тяжело… Семь потов сойдет.
– А мы, дедуль, на даче камин березовыми поленьями топим. И… у нас никакого хвороста нет.
– Сейчас – так, а в мое детство…
– Дедуль, разве хворост плоше дров?
– Нет слов…
– Дедуль, а из чего делался хворост?
– Хворост, голуба душа, это сучья от спиленного дерева.
– А-а-а… Почему сейчас нет хвороста?
– Его за ненадобностью сжигают прямо на лесной делянке.
– Просто так сжигают?
– Да. Чтобы делянку не засорять.
– А-а-а…
– Так вот… Взяв за головку прислоненные к крыльцу деревянные салазки, вышел на деревенскую улицу. Дома стояли только по одной стороне и домов этих было не больше пятидесяти. На другой стороне улицы начинался очень глубокий и крутой овраг, в самом низу его стояли вековые ели. Любимое детское занятие в Рождество, а других не было, – скатываться на салазках вниз. Так, бывало, мчишься, что дух захватывает.
– Круто! – Представив себе, восхищенно сказала девочка и тряхнула головой.
– Но страшно, а поэтому и нравились нам спуски: лихачили, друг перед другом бойчились. Кому захочется показаться трусом?
– Дедуль, знаешь… Я бы… ну… это…
Олег Васильевич понял внучку. Улыбнувшись, заметил:
– Вот визгу-то бы было.
– Дедуль, я чуть-чуть только трусиха.
Старик, притянув девочку, поцеловал:
– Чуть-чуть – это Маришенька, не считается.
– И я девочка…
– Тем более…
Маришка затормошила дедушку.
– Что дальше-то было, а?
– Стою, значит, на улице. Мороз цапает за нос, а мне ничего. Тут вижу: в мою сторону бежит дружок, одногодок Сережка, живущий за три дома от меня, и руками размахивает. Понятно: хочет присоседиться; у него-то нет салазок таких.
– Фи! Пошел бы и купил.
– Откуда деньги, голуба душа? У тогдашних колхозников сроду их не было.
– Как это, дедуль? Кто работает, тот денежку получает.
– Только не в колхозе… Работали за палочки, то есть за трудодни. Если в поле с утра до ночи, то бригадир начисляет полтрудодня; если на ферме, то целый трудодень, а то и полтора… Ладно, Мариш… Будет об этом… Вот… Санки-то небольшие… Вдвоем тесновато… Но ничего… Другу как отказать? Друг, значит, впереди, вплотную к головке салазок, а я за ним, за спиной Сережки. Из-за него впереди мне ничего не видно, поэтому рулит, то есть следит и направляет, Сережка. Один раз съехали, все нормально. Потом второй и третий раз. Весело нам. Хохочем.
Маринка спрашивает:
– Одни, что ли катались?
– Нет… Были и другие мальчишки. Для того и рулевой нужен был, чтобы не налететь, не сбить кого-нибудь. Выбравшись в очередной раз из оврага, решил, что пора домой. Сережка стал упрашивать: давай, мол, еще раз спустимся. Разохотился. Сдался, потому что и самому не хотелось особо-то домой. И вот летим. Сережка, как обычно, широко расшеперил, держа на весу, свои ноги. Я также держу на весу ноги, чтобы они не мешали набору скорости при спуске, но параллельно салазкам. Хорошо, как никогда, мчимся. И тут вдруг обе мои ноги со всего маху ударяются во что-то. В глазах – синенькие, зелененькие круги, туман. И страшная боль. Оказалось: Сережка прошляпил, не отворотил в сторону, и мы ударились в преогромный ствол ели. Сережке-то ничего: легким испугом отделался…
– А ты, дедуль?..
– Мне не повезло, голуба душа.
– Как это? Ты же сзади сидел.
– То-то и оно, что сзади! Салазки-то маленькие. Мои ноги находились впереди головки и удар пришелся по ним… Сгоряча попробовал встать, но не смог. С трудом наверх пополз, а Сережка потащил салазки. Кое-как вылез. Там снова попробовал встать. Не получилось. На ровном-то месте дружок смог меня до дома довезти. Там тихонько, чтобы мать не увидела, заполз в дом, превозмогая боль в ногах, кое-как взобрался сначала на печку, а потом и на полати.
Маринка, нахмурившись, спросила:
– Почему не в больницу?
– Ну, знаешь ли… Никакой больницы в деревне не было.
– Вообще?!
Олег Васильевич кивнул и тяжело вздохнул.
– Такое вот Рождество у меня случилось.
– А что, дедуль, потом было?
– Лежу, не шелохнувшись, на полатях час, другой, третий, а дикая боль в ногах не проходит. Вечер. С полатей вижу, что мама собирает ужин на стол. Мама зовет. Говорю, что не хочу есть. Мама отступает. Я облегченно вздыхаю. Боязно признаться в том, что со мной случилось. Ночь промаялся. На другой день мама говорит мне, чтобы сходил за водой. Какая вода, если ногами пошевелить не могу? Мама думает, что я не слышал, поэтому повторяет. Только тут я признась, что не ходок. Пришлось рассказать все, что со мной случилось. Мама забралась на полати, осмотрела ноги. Увидев, что они распухли и посинели, ахнула. Тут же стащила меня вниз, одела, вынесла во двор, посадила в салазки и повезла к бабке-знахарке. Та осмотрела, ощупала и заключила: переломов костей нет.