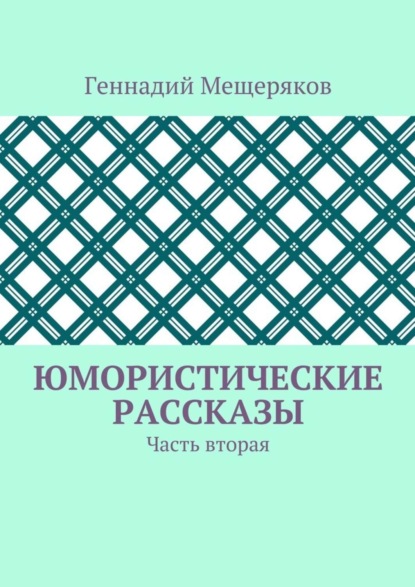По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Юмористические рассказы. Часть вторая
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Индюк Сопля возомнил себя большой шишкой. А где сейчас? Давно съели. Как и страуса Леню. Все убегал да прятал в песке голову, выпячивая зад.
Ворон Карла, напарник мой (помогает топтать кур, когда устаю), советует вступить в партию соловьев, но мне надоели их трели о манне небесной. Утопические социалисты, твою мать, на мусорках не гребутся.
В последнее время меньше шипит в оппозиции гусь Задира. С ним только цыпленок Пух, недавно вылупился, до топора ему далеко.
Льготами у хозяйки пользуются закупленные за границей серые утки – птицы легкого поведения без имени. Подхалимы, ходят, как и она, вперевалочку. Все время глотают мешанку и гадят в кормушку. Кря, кря, француженки, твою мать.
Надо слетать с плетня: солнышко уже выкатилось. Господи, хозяйка идет с топором. Все, это конец: мне улыбается! И никто не поможет. В яблонях тащатся от самих себя соловьи, друг Карла зовет к себе на высокую крышу. Забыл, наверное, что летать не могу. И куда убегу со шпорами.
В зоопарке
– Белый медведь, белый медведь, – тычут в меня пальцем. Нашли невидаль: зек на пожизненном. Упекли в зону, назвав ее зоопарком, за жару и наводнения, мол, раскачал земную ось, когда терся об нее.
А за что интересно, загнали в клетку Леву, царя зверей, за красоту? Вон как тащатся от него: какая грива, какой хвост, с кисточкой. Впору самому клетку подметать.
Рык бы его перевели лучше на народный язык, тоскует он по свободе, как и все мы.
Обезьяны заважничали, как же: от них человек произошел. А у многих зад голый, не стесняются показывать его за конфетку.
Насмотрелся я на людей. Один мужик, как две капли похожий на гориллу, две недели пьет с ним водку, забеленную молоком. Пойди, догадайся. К обеду песни распевают, взявшись за руки. А вчера к ним присоединился уборщик Коля. Все смеются, все довольны. А если горилла станет алкоголиком?
Боюсь, будут у нас и наркоманы. Бурый медведь уже курит трубку, которую дает ему тайно ветеринар. Табачок, скорее всего, с травкой? Почему мишка пляшет после каждой затяжки?
И со мной подобное было. Как очутились в моем вольере эти парень с девушкой, до сих пор не пойму? Дали мне жареную курицу, хлеб, предварительно обмакнув его в самогонку. Словно сдавленная торосом льдина трещала моя голова с похмелья, теперь отмахиваюсь от спиртного обеими лапами.
Рядом со мной оборудовали место носорогу. Мрачный зверь, того и гляди боднет. Потерся я о загородку и отлетел от нее, как игрушечный. К железным решеткам не подхожу вообще, а зачем мне дыра в туловище.
Самый добрый у нас слон Кузя. Директор заставляет его перетаскивать тяжелые грузы. Весь хобот исцарапал. А Кузя тихий, но умный, уронил бревно на ногу директору. Лев позавидовал его рыку со словами о Боге и матери. Директор теперь сильно хромает, и те двое у клетки, мужик с гориллой, передразнивают его, попивая огненное молочко.
Чукча с Крайнего севера, почти мой земляк, пришел к нам в оленьей шубе. А олени обитают у нас в загонке, их только лайки охраняют.
Что было? Загнали собаки мужика в стадо. Олени – в бой. Когда его вынесли из загонки, носорог посчитал его своим, такая на лбу была шишка.
Вон опять дразнят мартышку детсадовцы. Дали ей очки. Мартышка хочет надеть их на нос, а он маленький. Очки падают, все смеются…
Эх, на льдине бы поплавать, разорвать грудью снежную бурю. И никого рядом! Только зеленые глаза Большой Медведицы
Пахом и Кузьмич
– Сколь идем, Кузьмич, а все степь, когда кончится?
– Никогда, или не знаешь, Пахом, в Казахстан она протянулась, к лиманам.
– Я больше к Волге ходил, откуда она зачинается.
– Зачинается, все бы тебе о зачатии говорить. Сколько детей-то настрогал, пока столяром работал.
– Осьмнадцать.
– Осьмнадцать. Чего уж не двадцать до ровного счета.
– Грамотный ты очень, осилил бы я двадцать-то? С осьмнадцатью еле справился, высох весь.
– Это да. Наша ветла на пруду лучше выглядит, а он лет десять без воды.
– Попробуй сам не попить с год, чай, сдохнешь.
– Смотри, Пахом, Узень показался и водохранилище.
– На твою лысину похоже водохранилище, обросло все камышом.
– А по мне так краше картины нет: словно лента с ожерельем вплетена в степь.
– Ты вот что скажи, Кузьмич, все же ветеринар. Помнишь, как выкладывал мово жеребца? Убег он тогда от нас, так с одним яйцом и остался.
– Говорил я, надо спутать ноги, а ты: удержу. Вот он тебя и лягнул в промежность. Может, поэтому перестали вы с Манькой рожать.
– Я тогда так закрутился на месте, что воронку в земле вырыл. Ты еще в нее провалился, когда пьяный от меня уходил.
– Темно было в два часа ночи. Не надо было Маньке поднимать тосты за каждого из своих детей, удивительно, как она помнит их всех по имени?
– Она завсегда так, если за здоровье и на благо.
– Так о чем ты хотел меня спросить?
– Скажи мне, Кузьмич, в степи засуха, полынь не растет, а где суслики воду берут? У них ведер нет, чтобы носить ее с Узеня.
– Они умные, Пахом. Роют норы вблизи водоемов, и бегают к ним, когда захотят пить.
– А если козявка. Сколь ей надо ползти до реки, как нам с тобой до Волги.
– Для козявки каждая утренняя росинка – ведро воды, Пахом. В природе все предусмотрено. Вот мы идем с тобой по степи пешком, ботинки расползлись. А камыши рядом. Почему не сплести лапти? Насади на крючок жука, закинь удочку – вот тебе и уха. Понял намек?
– Устроим отдых у реки?
– Соображаешь. А почему настрогал восемнадцать детей, никак не пойму.
– А чо понимать. Дерево с одной веткой – бревно, а с осьмнадцатью?
– Восемнадцать бревен. Знаешь, как называют твою Маньку?
– Знаю, свиноматкой, зато есть к кому пойти в гости.
– Вот и идем третьи сутки. Предлагал ехать на автобусе до Грачева Гая, нет, ему лучше напрямки.
– Дешевле. Только еда да башмаки в расходе. А если из камыша лапти сплетем, забесплатно дойдем.
– Забесплатно. Эх, Пахом, Пахом. А отца твоего как звали?