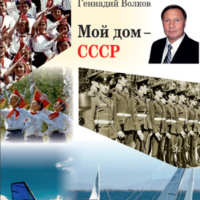Мой дом – СССР
Конечно, колхозное начальство понимало, что опаздывать с сенокосом нельзя. Ещё вчера наш бригадир, Александр Быков, проехался верхом на лошади по всей деревне, предупреждая жителей, что завтра начинается сенокос и всем надо собраться рано утром на околице.
Услышав эту новость, я тут же побежал к своему самому ближайшему другу Гере, чтобы вдвоём подготовиться к завтрашнему дню:
– Герка, доставай косу, завтра пойдём на луга, сенокос начинается! – прямо с порога заорал я.
– Неужели дождались, радость-то какая! – съехидничал Герка, идя мне навстречу. Но видно было, что он всё же рад этой новости. – Коса-то готовая, но отбивать некому.
– А я на что? Свою я уже отбил, показал папе, и он даже похвалил. Давай бери косу и пойдём ко мне, там у меня есть все инструменты.
Сказано – сделано, через час я уже протягивал Герке отбитую косу.
– И где ты только успел научиться? – удивлённо рассматривая косу, промолвил он, всё ещё недоверчиво приподнимая свои плечи.
Герка был годом старше меня и уже закончил восьмой класс и собирался поступать в училище торгового флота. Наши дома в деревне стояли прямо напротив. Может, поэтому мы были с ним друзьями с самого малолетства. Ещё три года назад, когда мне было двенадцать лет, мы с Геркой первый раз пошли на сенокос на колхозные луга. Очень тогда удивлялись взрослые: «Сами вроде малявки, а покос у них шире, чем у взрослых женщин». Эти замечания нам очень нравились, и мы старались ещё больше.
Нам уже тогда было известно, что хорошо отбитая коса – это половина успеха. Но в деревне было всего-то несколько мастеров в этом деле. Просить каждый раз кого-то отбить косу было неудобно, и я решил однажды научиться этому сам.
Хорошо, что мой папа был очень рукастый и мог довольно ловко и мастерски отбить косу. Нужен был специально заострённый молоток, которым отбиваешь лезвие косы по всей длине на глубину не более двух миллиметров, надо хорошо рассчитывать – чисто интуитивно – силу удара и, многократно стуча по одному и тому же месту, распластать металл в тоненькую острую пластину. Если неправильно отбить, он пойдёт волнами и лезвие будет с зазубринами. Ох и намучаешься тогда с такой косой. Всё тело будет болеть после косьбы.
Ранним утром много людей собралось за околицей, где и начинались колхозные луга. В основном была молодёжь. Парни и девчата не скрывали радости от возможности собираться вместе. То и дело слышался чей-то заливистый смех, кто-то пробовал пропеть куплетик частушки, многие просто оживлённо-радостно разговаривали. Мы все были в восторге от того, что будем работать вместе почти целый месяц, пока не скосим всю траву и не уберём высушенное сено. Сенокос – это кульминация состояния души деревенской жизни. Поэтому, наверное, мы с Геркой ещё в подростковом возрасте влились в этот восторженный мир, мир добра и радости с запахами скошенной травы, сухого сена, с колосящимися полями, с пением птиц и жужжанием пчёл, со взглядами девчат, украдкой брошенными, как бы невзначай.
Вот и бригадир появился. Привёз с собой на повозке флягу в целых пятьдесят литров прохладной колодезной воды. Люди тут же потянулись за водой – кружка воды лишней не будет.
– Кто с похмелья, тому без очереди, – пошутил наш бригадир. – Пейте, пейте, я потом ещё привезу.
Так, шутками-прибаутками народ постепенно начал становиться друг за другом на покосы, и пошло раздолье. Мигом стихли все разговоры, только слышен был синхронный звук железных кос, режущих луговую траву, ещё мокрую от утренней росы. Вжи-и-ик, вжи-и-ик! – ох как приятно слушать эту музыку лета, наполняющую душу какой-то непонятной радостью и в то же время некоторой грустью от понимания соединения настоящего времени с долгим прошлым, что из года в год веками повторяется.
– Генка, не отставай! – крикнул мне Герка.
Мы оба шли двумя широкими покосами друг за другом. Эх, удаль молодецкая – посторонись! Наши косы в привыкших к ним руках то взлетали, то вонзались в густую массу зелёной травы, вовремя огибая небольшие муравейники, встречающиеся на пути.
– Я-то не отстану, ну а всё-таки пора бы и передохнуть, – я стёр с лица крупные капли пота.
– Перерыв! – громко объявил своим задорным голосом бригадир.
Это объявление было вовремя. Все как подкошенные попадали на свежескошенную траву. Ох, как же это здорово – поваляться на душистой травке! Я лёг на спину и растянулся во весь рост, давая расслабиться мышцам и всему телу.
– Как же хочется послушать разные истории!.. – вдруг прервала всеобщее молчание Галина, моя двоюродная сестра, своими красивыми глазами обводя сидящих рядом. Галина была кумиром нашей деревенской молодёжи. Прекрасная певица, танцовщица, с изумительным станом и красивым лицом, она была необыкновенно очаровательной девушкой.
– Игнат, начни первым, у тебя хорошо получается, – продолжила она, обращаясь к моему соседу по дому Игнату. Мы все знали, какой он сказочник и весельчак, и народ тут же с интересом засуетился.
– Давай, давай, Игнат, вспоминай, пока молодой да красивый, – подшучивали женщины.
Игната не надо было просить дважды. Симпатичный коренастый парень, с твёрдыми рабочими руками, а лицом похожий на знаменитого киноактёра Никулина, мог часами рассказывать разные байки и небылицы, от серьёзных и даже страшных до таких весёлых, что люди смеялись до икоты.
– Это было давно, – начал Игнат. – Женщины из нашей деревни пошли на сенокос довольно далеко на лесные луговые поляны, ну, вы знаете, где за песчаными холмами вдоль речки тянется заросшая во многих местах ивняком долина…
Все знающе закивали головами.
– И среди них были моя бабушка и Генкина бабушка, которые и рассказали эту историю. Косили они до самой темноты и остались ночевать в двух шалашиках, построенных ещё днём. Поужинали уже в лунных сумерках и улеглись спать. Вдруг из темноты послышался звук лязгающего металла. Звук постепенно приближался и уже был почти рядом, и это заставило некоторых выглянуть наружу. Недалеко от испуганных женщин по лесной дороге ехал всадник. Одет он был в кольчугу, а на голове был железный остроконечный шлем. Ноги в невысоких кожаных сапогах прочно держались в стременах. Всадник был вооружён луком со стрелами, которые были в колчане за спиной, и кривым мечом, висевшим на боку. Он медленно покачивался в такт лошадиному шагу и не проявлял никакого интереса к окружающему миру. Так и постепенно исчез в темноте. Испуганные женщины долго ещё слышали удаляющийся металлический звук и до утра не сомкнули глаз.
Так Игнат закончил свой рассказ, а все слушатели сидели, затаив дыхание и переваривая услышанное, вновь и вновь возвращаясь к рассказу.
– Подъём! – резкий окрик бригадира вернул нас к действительности. Все засуетились, вновь принимаясь за работу. Надо было быстрей забыть пугающий немного рассказ Игната. Так вот, то работая до пота, то слушая разные байки, мы и закончили первый день сенокоса. Перед уходом домой, когда солнышко шло к закату, я оглянулся на наши луга со скошенной травой, которые заполнялись новым, вечерним ароматом, и вспомнилась мне красивая песня, которую я недавно пробовал сыграть на гармошке:
Месяц спрятался за рощу,Спят речные берега.Хороши июньской ночьюСенокосные луга.* * *Если сказать, что школьные годы пролетают быстро, как обычно говорят все, то это ничего не сказать: они просто проносятся, как снежная лавина с высоких гор, напористо, в бешеном темпе, увлекая с собой тебя, твоих друзей в ритм приобретения новых познаний, в круговорот новых событий, к новым свершениям. Только что начал ходить в школу, а теперь уже и заканчиваю.
Правда, оглядываясь назад, начинаешь ощущать длительность этого полёта. «Нет, наверное, всё-таки не как снежная лавина, – подкрадывается в сознание, – а чуть помедленнее, ну, как табун лошадей, идущих на водопой медленной рысью». Начиная просматривать в своих воспоминаниях школьные годы, с удивлением обнаруживаешь огромное количество уже порядком забытых, когда-то казавшихся обыденными, разных маленьких и больших происшествий.
Очень хорошо помню, как родители собирали меня в первый класс. Одели в костюмчик чёрного цвета, белую рубашку, небольшого размера соломенную шляпу, а в довесок к этому наряду вложили блестящую папину авторучку в нагрудный наружный карман костюма. Тогда ещё в школах ученики не носили школьную форму, ставшую обязательной позже, и мой наряд, естественно, вызвал живой интерес. Меня тут же обозвали Профессором, и это прозвище держалось аж до четвёртого класса, пока я не спел со сцены клуба на одном из школьных концертов песню «Орлёнок», после чего мне дали новое прозвище – Орлёнок.
А вот ещё, уже во втором классе, на перемене заигрались в партизаны: в занесённом снегом школьном саду выкопали пещерку в снежном сугробе и просидели там почти половину следующего урока. Естественно, следующую половину пришлось простоять у классной доски за такую провинность. Такая же участь постигла нас, когда в третьем классе на большой перемене сходили искупаться на ближайший пруд и пропустили почти весь урок. Казалось, гнев нашей учительницы, Анастасии Михайловны, не будет иметь границ, но всё как-то и это пережили.
Начальная школа, с первого по четвёртый класс, находилась в нашей деревне и занимала небольшое старое здание. Вокруг школы, на участке почти в гектар, был настоящий дремучий фруктовый сад, в котором мы чувствовали себя очень привольно. Поиграть ли в войнушку, прятки, или просто собирать фрукты и ягоды – всё это нам позволялось.
С переходом в пятый класс многое изменилось. Туванская средняя школа находилась в соседнем селе, и нам приходилось каждый день совершать довольно длинные пешие переходы длиной в три километра и столько же обратно. Всё стало гораздо серьёзнее. Мы повзрослели и стали активными участниками разных мероприятий, проводимых в школе.
К концу учебы в пятом классе мы довольно успешно освоились в новой для нас Туванской средней школе. Только что прошли майские праздники, 1 Мая – День солидарности трудящихся и 9 Мая – День Победы. Если на праздник 1 Мая вся школа собиралась на торжественную линейку с выносом флага школы, концертной программой школьной самодеятельности, а после на всеобщее чаепитие с разными сладостями, то День Победы праздновался более грандиозно. На митинг в честь Победы над фашизмом, самым бесчеловечной идеологией в истории человечества, были приглашены все ветераны-фронтовики наших деревень, все родители учеников, представители местных и районных администраций.
Так было и на этот раз. Вот внушительная колонна с красными флагами, где ядром колонны были пионеры в ярко-красных галстуках и отдельные группы старшеклассников в военной форме, под барабанную дробь и песни военных лет двинулась к парку Победы. Много, много людей, помимо приглашённых, собралось в парке Победы на митинг. Невозможно передать те волнительные чувства от всего происходящего, ту радость людей от Победы в той кровопролитной войне и вместе с тем и большую скорбь от тяжёлых утрат. Лица мальчишек и девчонок то радостно сияли от восторга в лучах весеннего солнца, то грустно тускнели от слов выступающих. А кульминацией всего праздничного митинга был оружейный салют в честь Победы. Бывшие фронтовики выстраивались перед памятником погибшим на войне и давали залп из охотничьих ружей несколько раз, приводя в восторг всех собравшихся, особенно нас, мальчишек. А потом было праздничное гуляние с накрытыми столами, песнями и танцами под гармошку. То чувство патриотизма, та спаянность общества и дружба народов, людей всех национальностей в огромной нашей стране, в СССР, складывались именно на таких мероприятиях, как наши весенние майские праздники. И даже через многие годы, уже во взрослой жизни, мы с большой теплотой вспоминаем наше советское время и испытываем чувство благодарности за то, что принадлежали той благородной, в прямом смысле этого слова, эпохе, эпохе социализма, которая рождала знаменитых ученых, докторов, писателей и поэтов, деятелей искусства, героев труда во многих областях науки и в освоении космоса, эпохе, где ценилось стремление быть полезным обществу, стремление учиться и достигать совершенства, где получение грамоты за отличие, этого кусочка бумажки, ценилось гораздо больше, чем денежное вознаграждение, где небольшой значок “Ударник коммунистического труда”, закреплённый на лацкане твоего пиджака, возносил тебя до небес чувством гордости за себя. А что касается нас, детей того советского общества, мы как губка впитывали в себя все достоинства народа: быть верным и правдивым, добрым и отзывчивым, храбрым и справедливым. И эти слова никогда не были для нас пустыми. Быть октябрёнком, пионером и затем комсомольцем – вот это и есть базовая поддержка нашей страны в деле воспитания молодого поколения. И это работало, работало с великим достоинством. Спасибо тебе, СССР.
Майские праздники всё ещё продолжались. 19 мая – День пионерии. Как правило, в нашей школе этот день отмечали с большим размахом. Вся пионерская организация школы, а это большая часть учеников, организованно выходила на опушку леса, который начинался неподалёку, для празднования этого дня. Специальная команда из старшеклассников заранее приезжала на определённое место, собирала валежник и сухостой и складывала в одну кучу для большущего костра. А костёр этот так и назывался – пионерский. Некоторые люди говорят, что в этом есть что-то магическое, связанное с историей развития славян и язычеством, а другие кивают на спиритизм, но, так или иначе, нам всё это очень нравилось, и мы, пионеры тех лет, уже с наступлением весны знали и с нетерпением ждали, когда же будет пионерский костёр.
Ещё неделей раньше дежурный по классу Вовка Горбунов подошёл ко мне:
– Ген, завуч школы зовёт нас с тобой к себе в учительскую комнату.
– Что, прямо сейчас? – спросил я настороженно, зная, что в учительскую просто так не зовут.
– Если готов, пойдём сейчас.
В голове у меня пронеслись мысли: если что-то натворил, то лучше узнать раньше.
Мы быстро поднялись на второй этаж в учительскую комнату.
Зоя Александровна встретила нас, как всегда, с доброй улыбкой, и мой страх тут же исчез.
– Ребята, – обратилась она к нам, – скоро будет пионерский костёр, и нам нужны барабанщик и горнист. Мы знаем, что вы смелые и боевые мальчишки, поэтому наш выбор пал на вас.
После таких слов отказаться было уже невозможно, и мы оба кивнули:
– Да, мы согласны.
– Вот и прекрасно, – Зоя Александровна открыла шкафчик и достала оттуда неимоверно красивые музыкальные инструменты: золотом поблёскивающий пионерский горн и красного цвета перламутровый барабан. Мои глаза расширились при виде такой красоты, потому что я всегда любил музыкальные инструменты и относился к ним с восхищением и бережно.
– Волков, вот тебе горн, будешь горнистом, а тебе, Горбунов, барабан – будешь барабанщиком. Можете взять инструменты к себе домой, чтобы порепетировать, – и с этими словами она проводила нас до дверей.
Мы, счастливые и довольные таким доверием, вернулись в класс, твёрдо уверенные, что не подведём.
Вот и наступил долгожданный день. На довольно большой поляне у леса выстроилась вся пионерская дружина нашей школы. Пионерские отряды, руководимые своими лидерами, построились и стояли раздельно друг от друга, с развёрнутыми знамёнами, дополненными разными флажками, и были похожи на римские военные отряды – когорты.
Отдельно от всех стояла группа пионервожатых и учителей, в основном классных руководителей, с представителями дирекции школы. У всех собравшихся, включая взрослых, на шее были завязаны отутюженные яркие красные галстуки. Командиры пионерских отрядов – лидеры каждого класса начали церемониальные доклады, похожие на чёткие рапорты командиров военных подразделений, о том, что их отряд для разведения пионерского костра построен. Как только закончился последний доклад, прозвучала команда о выносе знамени школы.
И тут я заволновался: нелёгкое это дело – играть на горне, да ещё и на ходу, но недельная подготовка дала свои плоды, и я заиграл на горне пионерский марш с такой силой, что многие заулыбались, восторженно переглядываясь. Группа знаменосцев шла торжественно под аккомпанемент моего горна и под барабанную дробь Вовки Горбунова, идущего рядом со мной, печатая шаг.
И вдруг произошло неожиданное: на пути возник небольшой муравейник, и Вовка споткнулся. Все ахнули. Но Вовка, перелетев через голову, быстро встал на ноги, как натренированный боец, – сказалось наше частое участие в футбольных баталиях, – и, как ни в чём не бывало, продолжил движение, барабаня изо всех сил.
Потом были традиционные выступления докладчиков о целях и задачах пионерского движения советской молодёжи. И вот наконец-то наступила кульминация – момент, когда надо было зажечь пионерский костёр, который возвышался в центре наших построений.
Приготовленная куча веток для костра была такой огромной, что поставили целую группу старшеклассников с факелами для розжига. И вот по команде ведущего все они встали вокруг гигантской кучи, зажгли свои факелы и так же, по команде «Пионерский костёр зажечь!» со всех сторон разожгли костёр. Видно было, как быстро разгорелся огонь, и уже через минуту огромное пламя бушевало над костром. Мы стояли и безмолвно смотрели на огонь, дивясь безмерной его силе, внутренне радуясь тому, что мы – пионеры и мы – участники этого события. Потом начались разные спортивные состязания между пионерскими отрядами, которые закончились только к концу дня. Было очень здорово.
Так, вспоминая свои прошедшие школьные годы, я, ученик десятого класса, всё чаще мыслями возвращался к тем ярким событиям нашей повседневной школьной жизни, и мне становилось всё теплее и радостнее. Вот они, наши хоккейные будни, когда на улице тридцать шесть градусов мороза и школа закрыта, а мы, с сосульками у рта и с раскрасневшимися лицами, ведём настоящую битву на замёрзшем пруду. А вот наша футбольная команда, кто на велосипедах, а кто верхом на коне, несущаяся в соседнюю деревню, в Кумашкино, через лесную дорогу в пятнадцать километров, чтобы провести футбольный матч. Вот они, бесконечные лыжные соревнования на пять, на десять, на пятнадцать километров, в которых я неизменно участвовал и, как правило, занимал первые места. А вот и шахматные баталии, которые часто проводились у нас в школе, как между классами, так и между школами района, а там – и республиканские…
Игра в шахматы – это не просто игра, а настоящая черта характера нашего народа. В эту интеллектуальную игру играли все, от мала до велика, и где угодно – в классе на перемене, в вагоне поезда, в парке на прогулке, на пляже и даже в бане. Я научился играть в шахматы уже в первом классе и через год выигрывал у своего учителя, моего отца; в седьмом обыграл известного шахматиста в нашем округе, учителя физики и математики нашей школы Анатолия Николаевича, на сеансе одновременной игры на шестнадцати досках, которую он проводил; в восьмом классе выиграл районные соревнования и стал участником шахматного турнира среди школьников республики, где и выполнил норматив второго разряда среди взрослых, показав результат в шесть выигранных партий из восьми. Только на моем примере можно судить о том, насколько популярна была игра в шахматы в СССР.
Мои мысли в ускоренном темпе проносились в голове, извлекая все новые и новые эпизоды из моей школьной жизни. Однажды, ещё в начале девятого класса, на большой перемене я зашёл в кабинет директора школы, чтобы обновить список комсомольцев школы. Мне это разрешалось, потому что в это время я был секретарём комсомольской организации школы, а если сказать попроще, то комсоргом, и мне то и дело приходилось бывать в дирекции школы. Андрей Петрович, наш директор, добрейший человек в учительской среде, сидел за своим столом и что-то писал. Я обратил внимание на новый расчехленный баян, который стоял на соседнем столике и призывно сверкал своими перламутровыми зелеными боками:
– Андрей Петрович, откуда такое сокровище? – с неподдельным интересом я подошёл к музыкальному инструменту.
– Да вот новый купили для уроков по пению, ещё и школьные концерты на носу. А что, ты умеешь играть на баяне? – спросил он, видя мой интерес к этому чудо-творению.
– Можно? – спросил я и, не дожидаясь ответа, бережно взял в руки баян. Пальцы привычно пробежались по клавишам, извлекая разные мелодии, потом плавно пошла мелодия песни «Мама, милая мама», которую исполняла всем известная певица Людмила Зыкина.
Я всегда вспоминаюДомик наш за рекой.Как живёшь ты, родная?Ты мне сердце открой.К нежной, ласковой самойПисьмецо своё шлю:Мама, милая мама,Как тебя я люблю.Я немножко оторвался мысленно от музыки и осторожно бросил взгляд на Андрея Петровича. Он сидел неподвижно, слушая мою музыку и глядя в окно куда-то далеко, и по его щеке медленно скатывалась одинокая слеза. Осторожно поставив инструмент на место, я, смущённый, извинился и медленно вышел из директорского кабинета.
Да, очень трудно нащупать те невидимые струны душевного равновесия человека: иногда хочется передать радость, а передаётся грусть, хочешь поведать о счастливых волнениях, а передаётся что-то неизмеримо больше, только ему известное.
* * *Ярко голубое небо, уже по-летнему палящее солнце, быстро зеленеющий школьный сад с распухшими плодовыми почками на ветках, всеми цветами радуги цветущие россыпи весенних цветов на клумбах нашего школьного двора – и в один миг погрустневшее здание школы, которое величаво возвышалось над соседними домами, и лица, лица одноклассников, друзей, мальчишек и девчонок, то сияющих от счастья, то грустно озирающихся вокруг, – так мне запомнился последний звонок, церемония, организованная в честь нас, десятиклассников, которые провели сегодня последний день в родной школе. Позади десять лет упорного труда обучения всему тому, что нас ожидает в будущем: от, казалось бы, самых простых умений, как читать, писать, петь и рисовать, и до обладания знаниями высшей математики, физики, химии и биологии.
Последняя для нас школьная линейка и последний звонок. Мы выстроились как на параде на школьном дворе и внимательно слушали наших учителей, обращающихся к нам с напутственными речами. Много душевного тепла и добрых пожеланий было в них, в речах наших учителей, ставших нам за эти годы поистине самыми близкими и родными людьми. Вот вышел к трибуне с заключительной речью и директор школы, наш уважаемый и любимый Андрей Петрович:
– Сегодня я обращаюсь к нашим ученикам, для которых прозвучит последний звонок. Дорогие мои юноши и девушки, мы, весь учительский состав нашей школы, были очень рады быть вместе с вами все эти долгие десять лет и передавать вам знания, которые у нас накоплены, с большим старанием. Я вижу, я чувствую, что наши старания не прошли даром. Многие из вас пойдут учиться дальше и поступят в университеты и институты, чтобы стать инженерами, учёными, врачами, а многие пойдут осваивать разные рабочие специальности. У всех есть большой выбор возможностей, чтобы стать человеком с большой буквы и чтобы не уронить честь и не потерять совесть на вашем долгом пути жизни. Наша великая Родина ждёт вас. Живите, радуйтесь, творите всё хорошее на нашей прекрасной земле. А теперь для вас прозвучит ваш последний звонок в вашей родной школе.
Андрей Петрович закончил свою короткую, но содержательную речь, и тут вышла вперёд, к трибуне похожая на картинку в журнале маленькая девочка-первоклашка с голубенькими глазами и вьющимися золотистыми волосами в белом школьном фартуке со значком октябрят и подняла над собой бронзовый колокольчик. Андрей Петрович, видя, что даже с поднятой рукой она ниже трибуны, быстренько поднял её на руки. И тут громко зазвенел наш последний звонок, звонок уходящего детства, звонок перехода во взрослую жизнь. И так они и стояли вдвоём, девочка-первоклашка и директор, будто символизируя этот переход. А колокольчик всё звенел и звенел, напутствуя нас и открывая нам двери в будущее.
Шёл 1972 год, год великих перемен для всех нас, для бывших уже школяров, зазывая нас в длинное и увлекательное путешествие под названием «жизнь».
* * *Мерный стук колёс вагонов фирменного поезда Москва – Чебоксары то убаюкивал мои разрозненные мысли, непринужденно отдаляя их, то воспалял опять, терзая моё сознание и не давая спать. Я лежал на верхней полке спального вагона, не обращая внимания на попутчиков. «У них, наверное, всё хорошо, и они счастливы, а мне вот очень горестно», – думал я. Казалось, весь мир отвернулся от меня, и я очень и очень одинок в своей печали. Мне было так стыдно и больно осознавать то, что я, один из лучших учеников нашей школы, не смог поступить в институт. А ведь было всё хорошо и безоблачно. Школьные выпускные экзамены сдал легко и свободно, и в аттестате, которые выдаются каждому ученику после сдачи экзаменов, красовались почти одни пятёрки, за исключением четвёрок по рисованию и черчению. Такие именитые предметы, как математика, геометрия, физика, химия, были для меня как наш родной домашний яблоневый сад, где я знал каждое деревце, и гулял я между разными формулами этих наук довольно свободно, как между этими деревцами. Многие мои друзья из нашего выпуска решили продолжить учёбу в высших учебных заведениях: Витя Васильев в ЧГУ – Чувашском государственном университете, Вовка Акимов – в КГУ, Казанском авиационном институте, Вовка Горбунов в ЧСХИ – Чебоксарском сельскохозяйственном институте… Я решил поступать в МЭИ – Московский энергетический институт на специальность “атомные электростанции и установки”. Хорошо сдал все четыре экзамена: получил в актив две пятёрки и две четверки, в сумме – восемнадцать баллов. Но проходной балл оказался ещё выше, аж девятнадцать. А конкурс из-за наплыва абитуриентов – пять человек на одно место. Вот как стремились молодые люди СССР к инженерным знаниям. Страна наша делала всё возможное, чтобы любой молодой человек мог совершенствовать свои знания. Огромная сеть профессиональных училищ, техникумов, институтов и университетов раскинулась по всей стране, где обучение было полностью бесплатным, а студенты получали ежемесячную стипендию и бесплатное жильё в прекрасно организованных общежитиях. Также государство давало молодому студенту гарантию – трудоустройство после окончания учебного заведения. Поэтому получить среднеспециальное или высшее образование стремилось огромное количество юношей и девушек по всему СССР. Фаворитами, конечно, были инженерные специальности. Вот отчего говорят, что СССР был самой грамотной страной в мире, и это было абсолютной правдой.