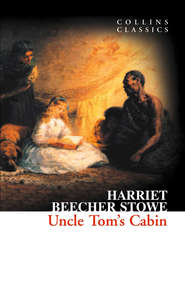По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Хижина дяди Тома
Автор
Жанр
Год написания книги
1852
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Миссис Берд медленно выдвинула ящик комода. Там лежали курточки всевозможных фасонов, передники, стопки чулок и даже пара протертых на носках башмачков, завернутых в бумагу. Рядом с башмачками – игрушечная лошадка, тележка, волчок и мячик – все памятные вещи, столько раз политые материнскими слезами. Миссис Берд опустилась на стул и, закрыв лицо ладонями, горько заплакала. Слезы текли у нее меж пальцев и капали в открытый ящик. Наплакавшись всласть, она подняла голову и начала торопливо отбирать из комода самые простенькие, самые крепкие вещи и связывать их в узел.
– Мама, – проговорил старший сын, осторожно трогая ее за руку, – ты и эти вещи хочешь отдать?
– Дорогие мои мальчики, – ответила она мягким, проникновенным голосом. – Наш любимый маленький Генри, наверно, смотрит на нас с небес и радуется, что мы так делаем. До сих пор я не могла заставить себя отдать его вещи просто так, кому-нибудь, но теперь их получит мать, еще более обездоленная, чем я, и да пошлет ей Господь свое благословение вместе с ними!
Есть в нашем мире прекрасные души, чьи горести оборачиваются благом для других людей; из чьих земных надежд, погребенных в могиле и политых жгучими слезами, как из семян вырастают цветы, целительные для разбитых сердец. Такова была и эта кроткая женщина, что сидела сейчас, медленно роняя слезы, и при свете свечи собирала для несчастной беглянки вещи, из которых каждая говорила ей об ее невозвратимой утрате.
Потом миссис Берд открыла гардероб, достала оттуда два-три платья, присела к своему рабочему столику, вооружилась иглой, ножницами и наперстком и, следуя совету мужа, принялась переделывать эти скромные наряды. Работа затянулась допоздна, и когда старинные часы, стоявшие в углу, пробили полночь, она услышала у дверей негромкий стук колес
– Мери, – сказал мистер Берд, входя в гостиную с перекинутым через руку плащом, – пойди разбуди ее. Пора ехать.
Миссис Берд наспех сложила приготовленные вещи в маленький сундучок и, поручив мужу отнести его в коляску, отправилась в комнату тетушки Дины.
Не прошло и нескольких минут, как Элиза с ребенком на руках появилась на крыльце в плаще, капоре и шали – подарках ее благодетельницы. Мистер Берд быстро усадил их обоих в коляску, миссис Берд проводила отъезжающих до самой подножки. Элиза высунулась из окна и протянула руку, такую же прекрасную и нежную, как та, которая была протянута ей. Большие темные глаза молодой матери не отрывались от миссис Берд, губы ее дрогнули, но она не смогла выговорить ни слова и только указала пальцем на небеса, потом откинулась на сиденье, закрыв лицо руками. Дверца захлопнулась, и коляска отъехала от крыльца.
В каком же положении очутился наш сенатор-патриот, который всю последнюю неделю только и знал, что подстегивал законодательную комиссию своего родного штата, чтобы она приняла более суровые меры против беглецов и против их укрывателей и соучастников!
Наш почтенный сенатор ни в чем не уступал своим вашингтонским собратьям, снискавшим себе бессмертную славу красноречием. С каким величественным видом сидел он, засунув руки в карманы, и возмущался сентиментальным малодушием тех, кто возносит благополучие какой-то горстки жалких беглецов над великими интересами штата!
Он был храбр, как лев, в такого рода спорах и убеждал в собственной правоте и самого себя, и своих слушателей. Но за теми буквами, из которых складывается слово «беглец», для него ничего не стояло, разве только маленькая газетная картинка, где изображался человек с дорожной палкой и узелком за плечами, а ниже – подпись: «Убежал от хозяина». Но силу воздействия истинного горя, которое сказывается в умоляющем человеческом взгляде, в дрожащей худой человеческой руке, в голосе, полном отчаяния и муки, – этого ему не пришлось испытать на себе. Он даже никогда не задумывался над тем, что «беглецом» может быть и несчастная мать, и беззащитный ребенок, как, например, тот, которому отдали шапочку покойного Генри – такую знакомую маленькую шапочку! И поскольку сердце у нашего бедного сенатора было не каменное и не стальное, его патриотизм, как станет ясно каждому, подвергался серьезным испытаниям. Впрочем, не злорадствуйте по этому поводу, наши братья из Южных штатов, ибо нам кажется, что многие из вас поступили бы так же при соответствующих обстоятельствах. Мы знаем, в Кентукки и в Миссисипи есть благородные, великодушные люди, такие, к кому никто не обращался понапрасну с рассказами о своих страданиях. И разве это справедливо, наши добрые братья, что вы ждете от нас деяний, которые вам не позволило бы совершить ваше смелое, честное сердце, будь вы на нашем месте?
Как бы то ни было, но если даже наш почтенный сенатор совершил политический грех, злоключения этой ночи предоставили ему полную возможность искупить его.
Последнее время в тех местах шли дожди, а мягкой, рыхлой почве Огайо нужно не так уж много влаги, чтобы превратиться в непролазную грязь; дорога же, по которой ехал сенатор, была так называемой «Железной дорогой» добрых старых времен.
«Позвольте! Что же это такое?» – спросят те путешественники, в мыслях которых железная дорога сочетается с удобством и быстротой передвижения.
Так знайте же, наши простодушные друзья из Восточных штатов, что в благословенных уголках Запада дороги мостят нестругаными бревнами, уложенными в ряд, одно к другому, и заваленными сверху землей, дерном – всем, что попадется под руку. Счастливые обитатели тамошних мест, считая такие дороги проезжими, немедленно пускаются по ним в путь. С течением времени дожди размывают землю и дерн, бревна ложатся вкривь и вкось, а колеи и рытвины заполняются жидкой черной грязью.
По такой-то дороге путешествует сейчас и наш сенатор, предаваясь на досуге размышлениям на этические темы, насколько это возможно при данных обстоятельствах, ибо коляска его то и дело подскакивает на ухабах, утопает в грязи, а ему самому и женщине с ребенком приходится кое-как приспосабливаться к тряске и принимать самые неожиданные позы, когда их швыряет из стороны в сторону. Вот, кажется, окончательно застряли! Каджо понукает лошадей, несколько тщетных рывков, сенатор теряет последнее терпение… и вдруг коляска становится на все четыре колеса. Потом передние ныряют в новую рытвину, седоки валятся вперед, шляпа бесцеремонно лезет сенатору на уши, на нос, и ему кажется, что его загасили, точно свечу колпачком. Ребенок плачет. Каджо обращается к лошадям с вдохновенными речами, а они бьют задом, налегают на постромки и кидаются то вправо, то влево под непрестанное щелканье кнута. Еще один толчок – теперь увязают задние колеса. Сенатора, женщину и ребенка швыряет на заднее сиденье. Он задевает локтем ее капор, она попадает обеими ногами в его шляпу, которая почему-то очутилась на полу. Но вот трясину проехали, и лошади останавливаются, тяжело нося боками. Сенатор отыскивает свой головной убор, женщина поправляет съехавший на затылок капор, успокаивает ребенка, и они мужественно готовятся к новым испытаниям.
Проходит еще несколько минут; коляска по-прежнему ныряет по рытвинам и время от времени то заваливается набок, то вздрагивает вся до основания. Наконец седоки начинают поздравлять себя с тем, что дела их не так уж плохи. И вдруг еще один сильный рывок… они поднимаются во весь рост и с необычайной быстротой снова опускаются на сиденье; коляска останавливается, снаружи происходит какая-то возня, и Каджо распахивает дверцу.
– Вот беда-то, сэр! Увязли! Просто и не знаю, как мы отсюда выберемся. Придется жерди подкладывать.
Повергнутый в отчаяние, сенатор выходит из экипажа, осторожно нащупывая, куда бы ступить. Одна нога у него немедленно уходит в бездонные глубины, он пытается вытащить ее, теряет равновесие, падает в грязь и, поднявшись с помощью Каджо, являет собой весьма плачевное зрелище.
Но довольно об этом – надо же пожалеть наших читателей! Люди, путешествовавшие по Западным штатам, посочувствуют нашему незадачливому герою, ибо им тоже приходилось проводить ночные часы за интересным занятием, которое состоит в том, чтобы выдергивать колья из изгородей и с их помощью выкорчевывать экипажи, утонувшие в грязи. Попросим же их пролить молчаливую слезу и последовать за нами дальше.
Только глубокой ночью забрызганная сверху донизу коляска переезжает вброд реку и останавливается у дверей большой фермы.
Чтобы разбудить ее обитателей, понадобилось немало терпения и настойчивости. Наконец почтенный хозяин отворил им дверь. Это был огромный детина, шести с лишним футов роста, настоящий Орсон, одетый в красную фланелевую рубашку. Взлохмаченная копна светлых волос и многодневная щетина, мягко выражаясь, не очень-то располагали в его пользу. Несколько минут он стоял со свечой в руке и, хмуро насупившись, таращил глаза на наших путешественников. Сенатор долго втолковывал ему, что от него требуется, и, воспользовавшись такой задержкой, мы представим читателю этого человека.
Джон Ван-Тромп был когда-то одним из крупных плантаторов и рабовладельцев в штате Кентукки. Природа наделила этого медведя – медведя лишь по виду – не только гигантским ростом и силой, но и добрым сердцем, и система рабовладельчества, одинаково позорная как для угнетаемых, так и для угнетателей, никогда не была ему по душе. Наконец наступил день, когда сердце Джона сбросило с себя тягостные оковы. Он вынул из стола бумажник, съездил в Огайо, купил участок хорошей, плодородной земли, дал вольную всем своим рабам – мужчинам, женщинам и детям, – усадил их со всем скарбом в повозки и отправил устраиваться на новом месте, а сам подыскал себе ферму в глуши, вверх по реке, и с чистой совестью поселился там в полном уединении.
– Вы не откажетесь приютить несчастную женщину с ребенком, которая спасается от погони? – без всяких обиняков спросил его сенатор.
– Не откажусь, – твердо ответил честный Джон.
– Так я и думал, – сказал сенатор.
– Пусть только сюда кто-нибудь сунется, мы им окажем достойный прием. Я готов. – Добряк расправил свои могучие плечи. – Кроме того, у меня семеро сыновей, каждый шести футов роста, и они тоже маху не дадут. Передайте этим смельчакам наше почтение и скажите им, что мы согласны принять их в любую минуту. – И, запустив пальцы в свою густую шевелюру, Джон разразился хохотом.
Измученная, еле живая от усталости Элиза вошла в кухню, держа на руках забывшегося тяжелым сном ребенка. Великан осветил свечкой ее лицо, сочувственно хмыкнул и распахнул дверь в маленькую спальню рядом с кухней. Пройдя туда следом за Элизой, он зажег еще одну свечу, поставил на стол и только тогда заговорил:
– Вот что я скажу, милая: бояться тебе нечего, пусть за тобой кто угодно приходит – меня врасплох не застанут! – И он показал на ружья, висевшие над камином. – Не поздоровится тому, кто вздумает здесь самочинствовать, это всем в округе известно. Так что спи спокойно, будто тебя мать в колыбели качает.
– Писаная красавица! – сказал он, оставшись наедине с сенатором. – И чаще всего бывает так, что чем красивее женщина, тем больше у нее причин спасаться бегством, если только она порядочная. Я это знаю!
Сенатор в двух словах поведал ему историю Элизы.
– Эх! Ну что ты скажешь! Вот горе-то! – разжалобился добряк. – Охотятся за бедняжкой, как за ланью! А ведь от хорошей матери ничего другого и требовать нельзя. Ей-богу, как услышу о таком безобразии, так еле себя сдерживаю, чтобы не наговорить чего-нибудь непотребного. – И Джон вытер глаза громадной, покрытой веснушками ручищей. – Поверите ли, уважаемый, я годами не ходил в церковь, не мог слушать, как там вещают, будто Библия оправдывает рабство. Человек я неученый, ни еврейского, ни греческого не знаю. Где мне спорить со священниками! А потом нашел все же такого священника, который и тем в учености не уступал и проповедовал совсем другое. Вот с тех пор я и пришел в лоно церкви.
Говоря все это, Джон откупоривал бутылку шипучего сидра и теперь поставил ее на стол.
– Оставайтесь у меня до утра, – предложил он радушно. – Я сейчас подниму свою старуху, она вам живо приготовит постель.
– Благодарю вас, друг мой, – сказал сенатор. – Я хочу попасть на дилижанс, мне надо в Колумбус.
– Ну что ж, если так, я вас немножко провожу, покажу вам другую дорогу. Та, по которой вы ехали, уж очень плохая.
Джон оделся и с фонарем в руке зашагал впереди коляски сенатора, выводя ее на дорогу, проходившую за фермой. Прощаясь с добрым Джоном, сенатор сунул ему бумажку в десять долларов.
– Это ей, – сказал он.
– Ладно, – так же коротко ответил Джон.
Они обменялись рукопожатием и расстались.
Глава X. Товар отправлен
Серое, моросящее дождем февральское утро заглянуло в хижину дяди Тома и осветило лица, омраченные гнетущей скорбью. На маленьком столике перед очагом была разостлана подстилка для глажения, на спинке стула висели две грубые, но чистые рубашки только что из-под утюга, третья лежала перед тетушкой Хлоей. Она старательно разглаживала каждую складку, каждый рубец, то и дело утирая слезы, ручьем катившиеся у нее по щекам.
Том сидел у стола, подперев голову рукой, перед ним лежала раскрытая Библия. Муж и жена хранили молчание. Час был ранний, и ребятишки спали, прижавшись друг к другу на низенькой деревянной кровати.
Том, который, как истый сын своего несчастного народа, всем сердцем был привязан к семье, встал из-за стола, подошел к кровати и долго смотрел на детей.
– Последний раз, – сказал он.
Тетушка Хлоя, не говоря ни слова, продолжала водить утюгом по выглаженной на славу рубахе, потом вдруг отставила его в сторону, упала на стул и заплакала навзрыд.
– Покориться воле божией! Да как тут быть покорной? Хоть бы мне знать, куда тебя увезут, в какие руки ты попадешь! Миссис говорит: года через два выкупим. Господи милостивый, да разве оттуда возвращаются! Там людей замучивают насмерть! Слышала я, что с ними делают на этих плантациях!
– Господь вездесущ, Хлоя, он не оставит меня и там.
– Он вездесущ, но иной раз по его воле творятся страшные дела, – сказала тетушка Хлоя. – И этим ты хочешь меня утешить!
– Я в руках божиих, – продолжал Том. – Хуже, чем он повелит, не будет. Возблагодарим его хотя бы за то, что продали меня, а не тебя с детьми. Здесь вас никто не обидит. Я один приму на себя все муки, а Господь поможет мне претерпеть их.
– Мама, – проговорил старший сын, осторожно трогая ее за руку, – ты и эти вещи хочешь отдать?
– Дорогие мои мальчики, – ответила она мягким, проникновенным голосом. – Наш любимый маленький Генри, наверно, смотрит на нас с небес и радуется, что мы так делаем. До сих пор я не могла заставить себя отдать его вещи просто так, кому-нибудь, но теперь их получит мать, еще более обездоленная, чем я, и да пошлет ей Господь свое благословение вместе с ними!
Есть в нашем мире прекрасные души, чьи горести оборачиваются благом для других людей; из чьих земных надежд, погребенных в могиле и политых жгучими слезами, как из семян вырастают цветы, целительные для разбитых сердец. Такова была и эта кроткая женщина, что сидела сейчас, медленно роняя слезы, и при свете свечи собирала для несчастной беглянки вещи, из которых каждая говорила ей об ее невозвратимой утрате.
Потом миссис Берд открыла гардероб, достала оттуда два-три платья, присела к своему рабочему столику, вооружилась иглой, ножницами и наперстком и, следуя совету мужа, принялась переделывать эти скромные наряды. Работа затянулась допоздна, и когда старинные часы, стоявшие в углу, пробили полночь, она услышала у дверей негромкий стук колес
– Мери, – сказал мистер Берд, входя в гостиную с перекинутым через руку плащом, – пойди разбуди ее. Пора ехать.
Миссис Берд наспех сложила приготовленные вещи в маленький сундучок и, поручив мужу отнести его в коляску, отправилась в комнату тетушки Дины.
Не прошло и нескольких минут, как Элиза с ребенком на руках появилась на крыльце в плаще, капоре и шали – подарках ее благодетельницы. Мистер Берд быстро усадил их обоих в коляску, миссис Берд проводила отъезжающих до самой подножки. Элиза высунулась из окна и протянула руку, такую же прекрасную и нежную, как та, которая была протянута ей. Большие темные глаза молодой матери не отрывались от миссис Берд, губы ее дрогнули, но она не смогла выговорить ни слова и только указала пальцем на небеса, потом откинулась на сиденье, закрыв лицо руками. Дверца захлопнулась, и коляска отъехала от крыльца.
В каком же положении очутился наш сенатор-патриот, который всю последнюю неделю только и знал, что подстегивал законодательную комиссию своего родного штата, чтобы она приняла более суровые меры против беглецов и против их укрывателей и соучастников!
Наш почтенный сенатор ни в чем не уступал своим вашингтонским собратьям, снискавшим себе бессмертную славу красноречием. С каким величественным видом сидел он, засунув руки в карманы, и возмущался сентиментальным малодушием тех, кто возносит благополучие какой-то горстки жалких беглецов над великими интересами штата!
Он был храбр, как лев, в такого рода спорах и убеждал в собственной правоте и самого себя, и своих слушателей. Но за теми буквами, из которых складывается слово «беглец», для него ничего не стояло, разве только маленькая газетная картинка, где изображался человек с дорожной палкой и узелком за плечами, а ниже – подпись: «Убежал от хозяина». Но силу воздействия истинного горя, которое сказывается в умоляющем человеческом взгляде, в дрожащей худой человеческой руке, в голосе, полном отчаяния и муки, – этого ему не пришлось испытать на себе. Он даже никогда не задумывался над тем, что «беглецом» может быть и несчастная мать, и беззащитный ребенок, как, например, тот, которому отдали шапочку покойного Генри – такую знакомую маленькую шапочку! И поскольку сердце у нашего бедного сенатора было не каменное и не стальное, его патриотизм, как станет ясно каждому, подвергался серьезным испытаниям. Впрочем, не злорадствуйте по этому поводу, наши братья из Южных штатов, ибо нам кажется, что многие из вас поступили бы так же при соответствующих обстоятельствах. Мы знаем, в Кентукки и в Миссисипи есть благородные, великодушные люди, такие, к кому никто не обращался понапрасну с рассказами о своих страданиях. И разве это справедливо, наши добрые братья, что вы ждете от нас деяний, которые вам не позволило бы совершить ваше смелое, честное сердце, будь вы на нашем месте?
Как бы то ни было, но если даже наш почтенный сенатор совершил политический грех, злоключения этой ночи предоставили ему полную возможность искупить его.
Последнее время в тех местах шли дожди, а мягкой, рыхлой почве Огайо нужно не так уж много влаги, чтобы превратиться в непролазную грязь; дорога же, по которой ехал сенатор, была так называемой «Железной дорогой» добрых старых времен.
«Позвольте! Что же это такое?» – спросят те путешественники, в мыслях которых железная дорога сочетается с удобством и быстротой передвижения.
Так знайте же, наши простодушные друзья из Восточных штатов, что в благословенных уголках Запада дороги мостят нестругаными бревнами, уложенными в ряд, одно к другому, и заваленными сверху землей, дерном – всем, что попадется под руку. Счастливые обитатели тамошних мест, считая такие дороги проезжими, немедленно пускаются по ним в путь. С течением времени дожди размывают землю и дерн, бревна ложатся вкривь и вкось, а колеи и рытвины заполняются жидкой черной грязью.
По такой-то дороге путешествует сейчас и наш сенатор, предаваясь на досуге размышлениям на этические темы, насколько это возможно при данных обстоятельствах, ибо коляска его то и дело подскакивает на ухабах, утопает в грязи, а ему самому и женщине с ребенком приходится кое-как приспосабливаться к тряске и принимать самые неожиданные позы, когда их швыряет из стороны в сторону. Вот, кажется, окончательно застряли! Каджо понукает лошадей, несколько тщетных рывков, сенатор теряет последнее терпение… и вдруг коляска становится на все четыре колеса. Потом передние ныряют в новую рытвину, седоки валятся вперед, шляпа бесцеремонно лезет сенатору на уши, на нос, и ему кажется, что его загасили, точно свечу колпачком. Ребенок плачет. Каджо обращается к лошадям с вдохновенными речами, а они бьют задом, налегают на постромки и кидаются то вправо, то влево под непрестанное щелканье кнута. Еще один толчок – теперь увязают задние колеса. Сенатора, женщину и ребенка швыряет на заднее сиденье. Он задевает локтем ее капор, она попадает обеими ногами в его шляпу, которая почему-то очутилась на полу. Но вот трясину проехали, и лошади останавливаются, тяжело нося боками. Сенатор отыскивает свой головной убор, женщина поправляет съехавший на затылок капор, успокаивает ребенка, и они мужественно готовятся к новым испытаниям.
Проходит еще несколько минут; коляска по-прежнему ныряет по рытвинам и время от времени то заваливается набок, то вздрагивает вся до основания. Наконец седоки начинают поздравлять себя с тем, что дела их не так уж плохи. И вдруг еще один сильный рывок… они поднимаются во весь рост и с необычайной быстротой снова опускаются на сиденье; коляска останавливается, снаружи происходит какая-то возня, и Каджо распахивает дверцу.
– Вот беда-то, сэр! Увязли! Просто и не знаю, как мы отсюда выберемся. Придется жерди подкладывать.
Повергнутый в отчаяние, сенатор выходит из экипажа, осторожно нащупывая, куда бы ступить. Одна нога у него немедленно уходит в бездонные глубины, он пытается вытащить ее, теряет равновесие, падает в грязь и, поднявшись с помощью Каджо, являет собой весьма плачевное зрелище.
Но довольно об этом – надо же пожалеть наших читателей! Люди, путешествовавшие по Западным штатам, посочувствуют нашему незадачливому герою, ибо им тоже приходилось проводить ночные часы за интересным занятием, которое состоит в том, чтобы выдергивать колья из изгородей и с их помощью выкорчевывать экипажи, утонувшие в грязи. Попросим же их пролить молчаливую слезу и последовать за нами дальше.
Только глубокой ночью забрызганная сверху донизу коляска переезжает вброд реку и останавливается у дверей большой фермы.
Чтобы разбудить ее обитателей, понадобилось немало терпения и настойчивости. Наконец почтенный хозяин отворил им дверь. Это был огромный детина, шести с лишним футов роста, настоящий Орсон, одетый в красную фланелевую рубашку. Взлохмаченная копна светлых волос и многодневная щетина, мягко выражаясь, не очень-то располагали в его пользу. Несколько минут он стоял со свечой в руке и, хмуро насупившись, таращил глаза на наших путешественников. Сенатор долго втолковывал ему, что от него требуется, и, воспользовавшись такой задержкой, мы представим читателю этого человека.
Джон Ван-Тромп был когда-то одним из крупных плантаторов и рабовладельцев в штате Кентукки. Природа наделила этого медведя – медведя лишь по виду – не только гигантским ростом и силой, но и добрым сердцем, и система рабовладельчества, одинаково позорная как для угнетаемых, так и для угнетателей, никогда не была ему по душе. Наконец наступил день, когда сердце Джона сбросило с себя тягостные оковы. Он вынул из стола бумажник, съездил в Огайо, купил участок хорошей, плодородной земли, дал вольную всем своим рабам – мужчинам, женщинам и детям, – усадил их со всем скарбом в повозки и отправил устраиваться на новом месте, а сам подыскал себе ферму в глуши, вверх по реке, и с чистой совестью поселился там в полном уединении.
– Вы не откажетесь приютить несчастную женщину с ребенком, которая спасается от погони? – без всяких обиняков спросил его сенатор.
– Не откажусь, – твердо ответил честный Джон.
– Так я и думал, – сказал сенатор.
– Пусть только сюда кто-нибудь сунется, мы им окажем достойный прием. Я готов. – Добряк расправил свои могучие плечи. – Кроме того, у меня семеро сыновей, каждый шести футов роста, и они тоже маху не дадут. Передайте этим смельчакам наше почтение и скажите им, что мы согласны принять их в любую минуту. – И, запустив пальцы в свою густую шевелюру, Джон разразился хохотом.
Измученная, еле живая от усталости Элиза вошла в кухню, держа на руках забывшегося тяжелым сном ребенка. Великан осветил свечкой ее лицо, сочувственно хмыкнул и распахнул дверь в маленькую спальню рядом с кухней. Пройдя туда следом за Элизой, он зажег еще одну свечу, поставил на стол и только тогда заговорил:
– Вот что я скажу, милая: бояться тебе нечего, пусть за тобой кто угодно приходит – меня врасплох не застанут! – И он показал на ружья, висевшие над камином. – Не поздоровится тому, кто вздумает здесь самочинствовать, это всем в округе известно. Так что спи спокойно, будто тебя мать в колыбели качает.
– Писаная красавица! – сказал он, оставшись наедине с сенатором. – И чаще всего бывает так, что чем красивее женщина, тем больше у нее причин спасаться бегством, если только она порядочная. Я это знаю!
Сенатор в двух словах поведал ему историю Элизы.
– Эх! Ну что ты скажешь! Вот горе-то! – разжалобился добряк. – Охотятся за бедняжкой, как за ланью! А ведь от хорошей матери ничего другого и требовать нельзя. Ей-богу, как услышу о таком безобразии, так еле себя сдерживаю, чтобы не наговорить чего-нибудь непотребного. – И Джон вытер глаза громадной, покрытой веснушками ручищей. – Поверите ли, уважаемый, я годами не ходил в церковь, не мог слушать, как там вещают, будто Библия оправдывает рабство. Человек я неученый, ни еврейского, ни греческого не знаю. Где мне спорить со священниками! А потом нашел все же такого священника, который и тем в учености не уступал и проповедовал совсем другое. Вот с тех пор я и пришел в лоно церкви.
Говоря все это, Джон откупоривал бутылку шипучего сидра и теперь поставил ее на стол.
– Оставайтесь у меня до утра, – предложил он радушно. – Я сейчас подниму свою старуху, она вам живо приготовит постель.
– Благодарю вас, друг мой, – сказал сенатор. – Я хочу попасть на дилижанс, мне надо в Колумбус.
– Ну что ж, если так, я вас немножко провожу, покажу вам другую дорогу. Та, по которой вы ехали, уж очень плохая.
Джон оделся и с фонарем в руке зашагал впереди коляски сенатора, выводя ее на дорогу, проходившую за фермой. Прощаясь с добрым Джоном, сенатор сунул ему бумажку в десять долларов.
– Это ей, – сказал он.
– Ладно, – так же коротко ответил Джон.
Они обменялись рукопожатием и расстались.
Глава X. Товар отправлен
Серое, моросящее дождем февральское утро заглянуло в хижину дяди Тома и осветило лица, омраченные гнетущей скорбью. На маленьком столике перед очагом была разостлана подстилка для глажения, на спинке стула висели две грубые, но чистые рубашки только что из-под утюга, третья лежала перед тетушкой Хлоей. Она старательно разглаживала каждую складку, каждый рубец, то и дело утирая слезы, ручьем катившиеся у нее по щекам.
Том сидел у стола, подперев голову рукой, перед ним лежала раскрытая Библия. Муж и жена хранили молчание. Час был ранний, и ребятишки спали, прижавшись друг к другу на низенькой деревянной кровати.
Том, который, как истый сын своего несчастного народа, всем сердцем был привязан к семье, встал из-за стола, подошел к кровати и долго смотрел на детей.
– Последний раз, – сказал он.
Тетушка Хлоя, не говоря ни слова, продолжала водить утюгом по выглаженной на славу рубахе, потом вдруг отставила его в сторону, упала на стул и заплакала навзрыд.
– Покориться воле божией! Да как тут быть покорной? Хоть бы мне знать, куда тебя увезут, в какие руки ты попадешь! Миссис говорит: года через два выкупим. Господи милостивый, да разве оттуда возвращаются! Там людей замучивают насмерть! Слышала я, что с ними делают на этих плантациях!
– Господь вездесущ, Хлоя, он не оставит меня и там.
– Он вездесущ, но иной раз по его воле творятся страшные дела, – сказала тетушка Хлоя. – И этим ты хочешь меня утешить!
– Я в руках божиих, – продолжал Том. – Хуже, чем он повелит, не будет. Возблагодарим его хотя бы за то, что продали меня, а не тебя с детьми. Здесь вас никто не обидит. Я один приму на себя все муки, а Господь поможет мне претерпеть их.