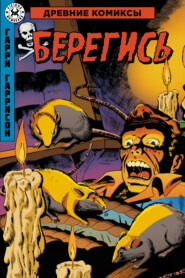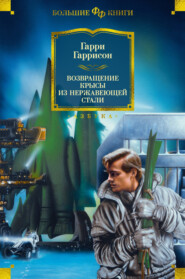По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Билл – герой Галактики. Фантастическая сага
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Среди ночи новобранцев поднимали по учебной тревоге воплем: «Внимание, газы!» – а свободное время занимала подготовка снаряжения. Седьмой день недели отводился для отдыха, но так как каждый успевал заработать какое-нибудь наказание, как, например, Билл, то воскресенье мало чем отличалось от будней.
Билл протиснулся сквозь перекрывающее вход слабое силовое поле, отрегулированное со столь изощренной хитростью, что позволяло кусачим мухам проникать в барак, но наружу их не выпускало, поставил на пол задубелую от пота, грязи и кухонного жира куртку и достал из сундучка электробритву. После четырнадцатичасовой чистки картофеля ноги у него тряслись как в лихорадке, а руки, бледные и опухшие, напоминали конечности добротно вымоченного покойника. В сортире он долго искал участок относительно чистого зеркала. Все зеркала были покрыты вдохновенными надписями вроде: «Держи язык за зубами – чинджеры подслушивают» или «Будешь много болтать – человек в зеркале пропал». В конце концов он сунул штепсель бритвы в розетку рядом с грозным вопросом: «Хочешь, чтобы твоя сестра вышла за чинджера?» – и всмотрелся в свое отражение. На него глядели налитые кровью, обведенные черными кругами глаза.
Больше минуты Билл елозил жужжащей машинкой по запавшим щекам, прежде чем смысл вопроса дошел до его отупевшего от усталости сознания.
– Нет у меня сестры, – буркнул он сварливо. – А если бы и была, на кой черт ей выходить замуж за ящерицу?
Вопрос был чисто риторический. Однако с противоположного конца помещения, а точнее, из последней кабинки во втором ряду донесся неожиданный ответ:
– Не следует понимать все буквально. Цель лозунга – будить в нас непримиримую ненависть к врагу.
Убежденный, что он в сортире один, Билл подскочил как ужаленный. Бритва взвизгнула со злобным удовлетворением и отхватила клочок губы.
– Кто здесь?! Почему прячешься?
Только сейчас он заметил груду башмаков, сваленных в дальнем углу, и склонившуюся над ней темную фигуру.
– А, это ты, Усер…
Гнев его сразу прошел, и Билл вновь повернулся к зеркалу.
Усердный Прилежник был столь неотъемлемой частью сортира, что его присутствие там просто не замечалось. Этот юноша с круглым, как полная луна, лицом, вечно румяными щеками и с неизменной улыбкой на лоснящейся физиономии так мало подходил к обстановке в учебном лагере имени Льва Троцкого, что первым порывом каждого новобранца было разорвать его на куски. Наверное, так бы и случилось, если бы Усер был в своем уме: только сущий придурок мог так охотно брать на себя работу товарищей и добровольно вызваться постоянно дежурить по сортиру. Мало того, он просто обожал драить башмаки и предлагал свои услуги по очереди всем рекрутам, так что теперь превратился в бессменного чистильщика. Когда взвод расходился по баракам, Усер располагался в своем царстве стульчаков и приступал к развитой уже почти до промышленных масштабов деятельности, с радостной улыбкой орудуя щетками. Гасли лампы, но он продолжал работу при свете горящего в баночке из-под гуталина фитилька, и побудка заставала его на обычном месте с удовлетворенным видом человека, закончившего очень важное дело. А когда башмаки бывали особенно грязными, Усер вообще не ложился спать. Шариков у него явно не хватало, но его не трогали: ведь он взвалил на плечи кошмарную обузу. Более того, парни буквально молились, чтобы Усер не протянул ноги от истощения, прежде чем кончится курс начальной военной подготовки.
– Если смысл только в этом, то почему бы просто не написать: «Возненавидь врага своего!» – удивился Билл и указал пальцем на противоположную стенку, где висел плакат под шапкой «Вот твой враг!». На плакате был изображен чинджер в натуральную величину – ящероподобное существо семи футов ростом, смахивающее на покрытого чешуей четверорукого земного кенгуру с крокодильей головой. – А потом – чья же сестра пожелает выйти замуж за такое страшилище? И что оно после свадьбы делало бы с этой сестрой? Разве что сожрало бы ее…
Усер как раз закончил полировать один красный башмак и взялся за следующий. Он нахмурил брови, чтобы показать, что в его черепе идут сложные мыслительные процессы, и изрек:
– Ну, видишь ли, никто не имеет в виду настоящую сестру. Это всего лишь пропагандистский трюк. Мы должны выиграть войну, а для этого должны драться как черти. Но чтобы драться как черти, солдаты должны быть хорошими солдатами, а хорошие солдаты должны ненавидеть врага. Так оно и идет. Чинджеры – единственная известная нам негуманоидная раса, построившая машинную цивилизацию, поэтому само собой разумеется, что мы должны стереть их в порошок.
– С какой это стати «разумеется»? Не желаю я никого стирать в порошок! Единственное, чего я хочу, – так это вернуться домой и стать оператором механического навозоразбрасывателя!
– Ну я же не имел в виду конкретно тебя. – Усер открыл новую банку багряной ваксы и запустил в нее палец точно такого же цвета. – Я имел в виду человечество вообще. Если мы их не сотрем – они нас сотрут! Правда, чинджеры утверждают, будто война противоречит их религиозным убеждениям и дерутся они только потому, что вынуждены обороняться. В этом что-то есть, так как они никогда не нападают первыми. Но вдруг им однажды придет в голову сменить религию? Хорошенький же вид тогда у нас будет! Лучше всего истребить их сейчас, пока еще не поздно!
Билл выключил бритву и ополоснул лицо тепловатой ржавой водой.
– Все равно что-то здесь не сходится. Ладно, пускай сестра, которой у меня нет, не путается с чинджером. Но какой смысл, например, в этом? – Он ткнул пальцем в надпись над стульчаком: «Воду спускай, о враге не забывай!» – Или в этом? – Плакат под писсуаром взывал: «Застегни ширинку, охламон, за тобой следит шпион!» – Дело не в том, что в лагере нет самого завалящего секрета, ради которого стоило бы пройти хоть милю, не говоря уж о двадцати пяти световых годах, но как чинджер может быть шпионом? Разве загримируешь семифутовую ящерицу под рекрута? Сомневаюсь даже, что ей удастся прикинуться сержантом Сдохни, даром что он вылитый чинджер…
Свет внезапно погас, и старший сержант Сгинь Сдохни, как вурдалак, являющийся из преисподней, стоило только назвать его имя, хрипло заорал:
– По койкам! По койкам, паршивые недоумки! Война идет, а им все хаханьки!
В темноте, озаренной лишь красноватым свечением глаз сержанта, Билл с трудом отыскал свой топчан. Заснул он, едва голова успела коснуться подушки, словно отлитой из какого-то кремнийуглеродистого сплава, и, как ему показалось, минутой позже вскочил на ноги, выброшенный из постели ударной волной побудки. За завтраком, когда Билл в поте лица резал эрзац-кофе на кусочки такой величины, чтобы их можно было безболезненно проглотить, телевидение передало сообщение о тяжелых, кровопролитных боях в секторе Беты Лиры. По столовой пронесся горький стон, вызванный отнюдь не избытком патриотизма, а тем фактом, что любые вести подобного рода могли привести только к ухудшению положения рекрутов. Они не имели понятия, каким образом, но были убеждены, что так и случится. И совершенно справедливо.
Так как утро выдалось прохладнее обычного, парад, обычно проводимый в понедельник, перенесли на полуденные часы, чтобы железобетонные плиты на плацу успели хорошенько раскалиться и обеспечить максимальное количество обмороков и тепловых ударов. Билл, вытянувшись по стойке смирно в одном из последних рядов строя, заметил, что над почетной трибуной натянут шатер с кондиционированием. Могло это означать только одно: приедет какая-то важная шишка.
В бок впивалась предохранительная скоба атомной винтовки, с носа капал пот, но краешком глаза Билл наблюдал, как поминутно то здесь, то там валятся снопами новобранцы и их товарищи поспешно отволакивают бесчувственные тела к стоящим наготове санитарным машинам. Бедняг укладывали в тень, а когда они приходили в сознание, отправляли обратно в строй.
Оркестр грянул марш «Звездные роты – чинджерам каюк!», скрытые в подметках иглы послали гипнотические импульсы, и в один миг тысячи атомных ружей сверкнули на солнце. Штабной автомобиль – две звезды на дверцах – подкатил к трибуне, маленькая круглая фигурка быстрым шагом одолела раскаленный, как печка, плац и исчезла в шатре с кондиционированием. Биллу еще не приходилось видеть генерала живьем, во всяком случае спереди. Как-то поздно ночью, возвращаясь из наряда по кухне мимо офицерского клуба, он заметил садящегося в машину генерала. Но длилось это лишь мгновение, да и генерал виден был только со спины. Таким образом, этот высокий чин ассоциировался у Билла с необъятной задницей, наложенной на крохотную муравьиную фигурку. Впрочем, столь же смутное представление имел Билл и о других офицерах: обычно новобранцы не сталкивались с командным составом. Лишь однажды у канцелярии он хорошенько разглядел какого-то второго лейтенанта и с некоторым удивлением обнаружил, что у того, оказывается, есть лицо. И еще был военврач, который читал им лекцию о венерических заболеваниях, но Биллу, по счастью, досталось место за колонной, и он, усевшись, сразу же заснул.
Оркестр наконец выдохся, зато над строем всплыли антигравитационные громкоговорители, и плац содрогнулся от раскатов генеральского голоса. В речи этой ничего, что могло бы заинтересовать солдат, не было, и закончил ее генерал заявлением, что в связи с тяжелыми потерями на фронте срок их обучения будет значительно сокращен. Эти слова только подтвердили их ожидания. Затем под гром оркестра рекрутов отвели в казарму, где они переоделись в полевую форму, и ускоренным маршем отправили на стрельбище; в связи с сокращением сроков обучения им предстояло расстрелять вдвое больше патронов, чем обычно, по пластиковым чинджерам.
Новобранцы палили из винтовок, как бог на душу положит, пока вдруг среди мишеней не возник Сгинь Сдохни. Каждый тут же перевел оружие на автоматический огонь и со снайперской меткостью всадил в сержанта всю обойму – явление, безусловно, необычное и очень редкое. Однако, когда дым рассеялся, радостные возгласы сменились тоскливыми всхлипываниями, так как оказалось, что это была всего лишь пластиковая кукла, теперь разнесенная в клочья. В довершение откуда ни возьмись появился оригинал, заскрипел клыками и влепил всем по месяцу нарядов на кухне вне очереди.
– Отличная штука – человеческое тело, – заявил Задница Браун месяцем позже, жуя в клубе для низших чинов сосиску из субпродуктов в пластиковой оболочке и запивая ее теплым водянистым пивом. Задница Браун на гражданке пас коров, потому-то его и назвали Задницей – ведь всякий знает, что проделывают пастухи со своими милашками. Был он обожжен солнцем, как старый ремень, долговяз и кривоног. Немногословности его научила работа на травянистых равнинах, где тишину нарушали лишь вопли напуганной чем-то коровки. Зато это был великий мыслитель, ибо времени для размышлений у него было хоть отбавляй. Задница Браун мог целыми днями, неделями вынашивать некую мысль, пока не приходил к решению, что она достаточно созрела и достойна огласки. И все это время ничто не могло его вывести из состояния задумчивости. Он даже не протестовал против своей клички, хотя любой другой на его месте как пить дать врезал бы обидчику по физиономии.
Билл, Усер и другие сидящие за столом солдаты засмеялись и стали хлопать в ладоши, как всегда, когда Задница что-нибудь изрекал.
– Валяй дальше, Задница!
– Э, да он говорить умеет!
– Ну так почему же тело – отличная штука?
Все замерли в ожидании ответа, пока Задница силился откусить от сосиски. Наконец ему это удалось. После тщательных попыток ее прожевать Задница глотнул, вытер проступившие слезы и сделал шумный глоток пива.
– Человеческое тело – отличная штука, потому что живет, пока не помрет.
Солдаты ждали продолжения, а когда поняли, что это все, восторженно закричали:
– Ну ты, Задница, и даешь!
– Умник чертов!
– Да, но что это значит?
Билл знал, что это значит, однако решил промолчать. В их подразделении в строю осталась лишь половина списочного состава. Одного перевели, остальные попали в госпиталь или в психушку, или были уволены по инвалидности, или были мертвы. Оставшиеся в живых сперва похудели так, что кожа висела на ребрах, затем набрали вес за счет мускулов и теперь были великолепно приспособлены к порядкам, царившим в лагере имени Льва Троцкого. Что ни в малейшей степени не меняло того факта, что и сам лагерь, и царившие в нем порядки они ненавидели всеми фибрами своей души. Билла эффективность такой системы просто поражала. Штатские морочат себе голову всякими глупостями вроде экзаменов, оценок, ученых званий и степеней и тысячами других условностей, а здесь – как сказочно просто! Слабые вымирают, но уж выжившие приспособлены ко всему. Такую систему следовало уважать, несмотря на всю питаемую к ней ненависть.
– Что мне нужно, так это бабу, – вздохнул Страшила.
– Кончай похабничать, – оборвал его Билл, воспитанный в строгих правилах пуританской морали.
– Кто похабничает?! – возмутился Страшила. – Разве я сказал, что хочу остаться на сверхсрочную или что Сдохни – тоже человек? Я сказал, что мне нужна баба, только и всего. А вам что, она не нужна?
– Выпивка мне нужна. – Задница Браун хлебнул пива, которое производили из порошка-концентрата, содрогнулся и выплюнул его на бетонный пол. Оно тут же испарилось.
– Ну да, ну да! – Страшила энергично мотнул головой. – Бабу, а потом выпить. Что еще нужно новобранцу в увольнении?
Все на некоторое время погрузились в размышления, но в голову и в самом деле ничего не приходило. Только Усер выглянул из-под стола, где тайком надраивал чей-то башмак, и заявил, что не помешало бы побольше ваксы, но на него не обратили внимания. Билл, как ни старался, не мог представить ничего иного, кроме этих взаимосвязанных вещей. Хотя припоминал смутно, что на гражданке у него случались другие желания, но вот какие именно…
– Да ладно вам, – донеслось из-под стола. – До отпуска осталось только семь недель…
Усер не договорил, получив от каждого из сидящих по крепкому пинку.
Хотя в соответствии с их субъективными ощущениями время едва тащилось, сохраняющие полную объективность часы отмеряли его неустанно, и вот наконец одна за другой миновали эти недели – несомненно, самые длинные из всех длинных недель. В течение этого срока на что на что, а на недостаток занятий они пожаловаться не могли: штыковой бой, стрельба из ручного и автоматического оружия, чистка того и другого, ориентирование на местности, строевая подготовка, хоровое пение и в довершение – военное законодательство. Лекции по последнему предмету с беспощадной регулярностью читали дважды в неделю, изощренно вызывая непреодолимую сонливость. Как только из динамиков магнитофона раздавались первые идеально монотонные скрипучие слова, солдаты начинали клевать носом. Каждое место в аудитории было подключено к электроцефалографу, регистрирующему биотоки рекрутов. Стоило кривой альфа-ритма только намекнуть на то, что кто-то из слушателей задремал, незамедлительно в ягодицу несчастного посылался мощный импульс электрического тока, столь же болезненный, сколь эффективный для прерывания сна. Никогда не проветриваемая аудитория напоминала погруженную во тьму камеру пыток, заполненную монотонным бормотанием магнитофонного лектора над морем сонно покачивающихся голов; бубнящий голос время от времени заглушали вопли неожиданно подключенного к сети горемыки-обучаемого.
Бесконечное перечисление жестоких наказаний и приговоров, грозящих за самые пустяковые провинности, никого особенно не тревожило. Все прекрасно понимали, что, завербовавшись, они отказались от каких бы то ни было человеческих прав, и подробное перечисление того, чего рекруты лишились, нисколько больше их не занимало. Другое дело – подсчет часов, отделяющих их от первого отпуска.
Ритуал вручения этой чрезвычайно редкой и столь желанной награды был необыкновенно унизителен, но ведь ничего иного новобранцы и не ожидали, и, опустив головы, они стояли в очереди, готовые обменять остатки самоуважения на кусок помятой фольги. Наконец церемония закончилась, и тут же разгорелось сражение за место в монорельсовом поезде, курсирующем между лагерем имени Льва Троцкого и небольшим сельскохозяйственным городишком Лейвилем. Линия была проложена по эстакаде, вознесенной на столбы, всегда находилась под напряжением и шла над тридцатифутовым забором из колючей проволоки, а затем над окружающим лагерь поясом зыбучих песков.
Билл протиснулся сквозь перекрывающее вход слабое силовое поле, отрегулированное со столь изощренной хитростью, что позволяло кусачим мухам проникать в барак, но наружу их не выпускало, поставил на пол задубелую от пота, грязи и кухонного жира куртку и достал из сундучка электробритву. После четырнадцатичасовой чистки картофеля ноги у него тряслись как в лихорадке, а руки, бледные и опухшие, напоминали конечности добротно вымоченного покойника. В сортире он долго искал участок относительно чистого зеркала. Все зеркала были покрыты вдохновенными надписями вроде: «Держи язык за зубами – чинджеры подслушивают» или «Будешь много болтать – человек в зеркале пропал». В конце концов он сунул штепсель бритвы в розетку рядом с грозным вопросом: «Хочешь, чтобы твоя сестра вышла за чинджера?» – и всмотрелся в свое отражение. На него глядели налитые кровью, обведенные черными кругами глаза.
Больше минуты Билл елозил жужжащей машинкой по запавшим щекам, прежде чем смысл вопроса дошел до его отупевшего от усталости сознания.
– Нет у меня сестры, – буркнул он сварливо. – А если бы и была, на кой черт ей выходить замуж за ящерицу?
Вопрос был чисто риторический. Однако с противоположного конца помещения, а точнее, из последней кабинки во втором ряду донесся неожиданный ответ:
– Не следует понимать все буквально. Цель лозунга – будить в нас непримиримую ненависть к врагу.
Убежденный, что он в сортире один, Билл подскочил как ужаленный. Бритва взвизгнула со злобным удовлетворением и отхватила клочок губы.
– Кто здесь?! Почему прячешься?
Только сейчас он заметил груду башмаков, сваленных в дальнем углу, и склонившуюся над ней темную фигуру.
– А, это ты, Усер…
Гнев его сразу прошел, и Билл вновь повернулся к зеркалу.
Усердный Прилежник был столь неотъемлемой частью сортира, что его присутствие там просто не замечалось. Этот юноша с круглым, как полная луна, лицом, вечно румяными щеками и с неизменной улыбкой на лоснящейся физиономии так мало подходил к обстановке в учебном лагере имени Льва Троцкого, что первым порывом каждого новобранца было разорвать его на куски. Наверное, так бы и случилось, если бы Усер был в своем уме: только сущий придурок мог так охотно брать на себя работу товарищей и добровольно вызваться постоянно дежурить по сортиру. Мало того, он просто обожал драить башмаки и предлагал свои услуги по очереди всем рекрутам, так что теперь превратился в бессменного чистильщика. Когда взвод расходился по баракам, Усер располагался в своем царстве стульчаков и приступал к развитой уже почти до промышленных масштабов деятельности, с радостной улыбкой орудуя щетками. Гасли лампы, но он продолжал работу при свете горящего в баночке из-под гуталина фитилька, и побудка заставала его на обычном месте с удовлетворенным видом человека, закончившего очень важное дело. А когда башмаки бывали особенно грязными, Усер вообще не ложился спать. Шариков у него явно не хватало, но его не трогали: ведь он взвалил на плечи кошмарную обузу. Более того, парни буквально молились, чтобы Усер не протянул ноги от истощения, прежде чем кончится курс начальной военной подготовки.
– Если смысл только в этом, то почему бы просто не написать: «Возненавидь врага своего!» – удивился Билл и указал пальцем на противоположную стенку, где висел плакат под шапкой «Вот твой враг!». На плакате был изображен чинджер в натуральную величину – ящероподобное существо семи футов ростом, смахивающее на покрытого чешуей четверорукого земного кенгуру с крокодильей головой. – А потом – чья же сестра пожелает выйти замуж за такое страшилище? И что оно после свадьбы делало бы с этой сестрой? Разве что сожрало бы ее…
Усер как раз закончил полировать один красный башмак и взялся за следующий. Он нахмурил брови, чтобы показать, что в его черепе идут сложные мыслительные процессы, и изрек:
– Ну, видишь ли, никто не имеет в виду настоящую сестру. Это всего лишь пропагандистский трюк. Мы должны выиграть войну, а для этого должны драться как черти. Но чтобы драться как черти, солдаты должны быть хорошими солдатами, а хорошие солдаты должны ненавидеть врага. Так оно и идет. Чинджеры – единственная известная нам негуманоидная раса, построившая машинную цивилизацию, поэтому само собой разумеется, что мы должны стереть их в порошок.
– С какой это стати «разумеется»? Не желаю я никого стирать в порошок! Единственное, чего я хочу, – так это вернуться домой и стать оператором механического навозоразбрасывателя!
– Ну я же не имел в виду конкретно тебя. – Усер открыл новую банку багряной ваксы и запустил в нее палец точно такого же цвета. – Я имел в виду человечество вообще. Если мы их не сотрем – они нас сотрут! Правда, чинджеры утверждают, будто война противоречит их религиозным убеждениям и дерутся они только потому, что вынуждены обороняться. В этом что-то есть, так как они никогда не нападают первыми. Но вдруг им однажды придет в голову сменить религию? Хорошенький же вид тогда у нас будет! Лучше всего истребить их сейчас, пока еще не поздно!
Билл выключил бритву и ополоснул лицо тепловатой ржавой водой.
– Все равно что-то здесь не сходится. Ладно, пускай сестра, которой у меня нет, не путается с чинджером. Но какой смысл, например, в этом? – Он ткнул пальцем в надпись над стульчаком: «Воду спускай, о враге не забывай!» – Или в этом? – Плакат под писсуаром взывал: «Застегни ширинку, охламон, за тобой следит шпион!» – Дело не в том, что в лагере нет самого завалящего секрета, ради которого стоило бы пройти хоть милю, не говоря уж о двадцати пяти световых годах, но как чинджер может быть шпионом? Разве загримируешь семифутовую ящерицу под рекрута? Сомневаюсь даже, что ей удастся прикинуться сержантом Сдохни, даром что он вылитый чинджер…
Свет внезапно погас, и старший сержант Сгинь Сдохни, как вурдалак, являющийся из преисподней, стоило только назвать его имя, хрипло заорал:
– По койкам! По койкам, паршивые недоумки! Война идет, а им все хаханьки!
В темноте, озаренной лишь красноватым свечением глаз сержанта, Билл с трудом отыскал свой топчан. Заснул он, едва голова успела коснуться подушки, словно отлитой из какого-то кремнийуглеродистого сплава, и, как ему показалось, минутой позже вскочил на ноги, выброшенный из постели ударной волной побудки. За завтраком, когда Билл в поте лица резал эрзац-кофе на кусочки такой величины, чтобы их можно было безболезненно проглотить, телевидение передало сообщение о тяжелых, кровопролитных боях в секторе Беты Лиры. По столовой пронесся горький стон, вызванный отнюдь не избытком патриотизма, а тем фактом, что любые вести подобного рода могли привести только к ухудшению положения рекрутов. Они не имели понятия, каким образом, но были убеждены, что так и случится. И совершенно справедливо.
Так как утро выдалось прохладнее обычного, парад, обычно проводимый в понедельник, перенесли на полуденные часы, чтобы железобетонные плиты на плацу успели хорошенько раскалиться и обеспечить максимальное количество обмороков и тепловых ударов. Билл, вытянувшись по стойке смирно в одном из последних рядов строя, заметил, что над почетной трибуной натянут шатер с кондиционированием. Могло это означать только одно: приедет какая-то важная шишка.
В бок впивалась предохранительная скоба атомной винтовки, с носа капал пот, но краешком глаза Билл наблюдал, как поминутно то здесь, то там валятся снопами новобранцы и их товарищи поспешно отволакивают бесчувственные тела к стоящим наготове санитарным машинам. Бедняг укладывали в тень, а когда они приходили в сознание, отправляли обратно в строй.
Оркестр грянул марш «Звездные роты – чинджерам каюк!», скрытые в подметках иглы послали гипнотические импульсы, и в один миг тысячи атомных ружей сверкнули на солнце. Штабной автомобиль – две звезды на дверцах – подкатил к трибуне, маленькая круглая фигурка быстрым шагом одолела раскаленный, как печка, плац и исчезла в шатре с кондиционированием. Биллу еще не приходилось видеть генерала живьем, во всяком случае спереди. Как-то поздно ночью, возвращаясь из наряда по кухне мимо офицерского клуба, он заметил садящегося в машину генерала. Но длилось это лишь мгновение, да и генерал виден был только со спины. Таким образом, этот высокий чин ассоциировался у Билла с необъятной задницей, наложенной на крохотную муравьиную фигурку. Впрочем, столь же смутное представление имел Билл и о других офицерах: обычно новобранцы не сталкивались с командным составом. Лишь однажды у канцелярии он хорошенько разглядел какого-то второго лейтенанта и с некоторым удивлением обнаружил, что у того, оказывается, есть лицо. И еще был военврач, который читал им лекцию о венерических заболеваниях, но Биллу, по счастью, досталось место за колонной, и он, усевшись, сразу же заснул.
Оркестр наконец выдохся, зато над строем всплыли антигравитационные громкоговорители, и плац содрогнулся от раскатов генеральского голоса. В речи этой ничего, что могло бы заинтересовать солдат, не было, и закончил ее генерал заявлением, что в связи с тяжелыми потерями на фронте срок их обучения будет значительно сокращен. Эти слова только подтвердили их ожидания. Затем под гром оркестра рекрутов отвели в казарму, где они переоделись в полевую форму, и ускоренным маршем отправили на стрельбище; в связи с сокращением сроков обучения им предстояло расстрелять вдвое больше патронов, чем обычно, по пластиковым чинджерам.
Новобранцы палили из винтовок, как бог на душу положит, пока вдруг среди мишеней не возник Сгинь Сдохни. Каждый тут же перевел оружие на автоматический огонь и со снайперской меткостью всадил в сержанта всю обойму – явление, безусловно, необычное и очень редкое. Однако, когда дым рассеялся, радостные возгласы сменились тоскливыми всхлипываниями, так как оказалось, что это была всего лишь пластиковая кукла, теперь разнесенная в клочья. В довершение откуда ни возьмись появился оригинал, заскрипел клыками и влепил всем по месяцу нарядов на кухне вне очереди.
– Отличная штука – человеческое тело, – заявил Задница Браун месяцем позже, жуя в клубе для низших чинов сосиску из субпродуктов в пластиковой оболочке и запивая ее теплым водянистым пивом. Задница Браун на гражданке пас коров, потому-то его и назвали Задницей – ведь всякий знает, что проделывают пастухи со своими милашками. Был он обожжен солнцем, как старый ремень, долговяз и кривоног. Немногословности его научила работа на травянистых равнинах, где тишину нарушали лишь вопли напуганной чем-то коровки. Зато это был великий мыслитель, ибо времени для размышлений у него было хоть отбавляй. Задница Браун мог целыми днями, неделями вынашивать некую мысль, пока не приходил к решению, что она достаточно созрела и достойна огласки. И все это время ничто не могло его вывести из состояния задумчивости. Он даже не протестовал против своей клички, хотя любой другой на его месте как пить дать врезал бы обидчику по физиономии.
Билл, Усер и другие сидящие за столом солдаты засмеялись и стали хлопать в ладоши, как всегда, когда Задница что-нибудь изрекал.
– Валяй дальше, Задница!
– Э, да он говорить умеет!
– Ну так почему же тело – отличная штука?
Все замерли в ожидании ответа, пока Задница силился откусить от сосиски. Наконец ему это удалось. После тщательных попыток ее прожевать Задница глотнул, вытер проступившие слезы и сделал шумный глоток пива.
– Человеческое тело – отличная штука, потому что живет, пока не помрет.
Солдаты ждали продолжения, а когда поняли, что это все, восторженно закричали:
– Ну ты, Задница, и даешь!
– Умник чертов!
– Да, но что это значит?
Билл знал, что это значит, однако решил промолчать. В их подразделении в строю осталась лишь половина списочного состава. Одного перевели, остальные попали в госпиталь или в психушку, или были уволены по инвалидности, или были мертвы. Оставшиеся в живых сперва похудели так, что кожа висела на ребрах, затем набрали вес за счет мускулов и теперь были великолепно приспособлены к порядкам, царившим в лагере имени Льва Троцкого. Что ни в малейшей степени не меняло того факта, что и сам лагерь, и царившие в нем порядки они ненавидели всеми фибрами своей души. Билла эффективность такой системы просто поражала. Штатские морочат себе голову всякими глупостями вроде экзаменов, оценок, ученых званий и степеней и тысячами других условностей, а здесь – как сказочно просто! Слабые вымирают, но уж выжившие приспособлены ко всему. Такую систему следовало уважать, несмотря на всю питаемую к ней ненависть.
– Что мне нужно, так это бабу, – вздохнул Страшила.
– Кончай похабничать, – оборвал его Билл, воспитанный в строгих правилах пуританской морали.
– Кто похабничает?! – возмутился Страшила. – Разве я сказал, что хочу остаться на сверхсрочную или что Сдохни – тоже человек? Я сказал, что мне нужна баба, только и всего. А вам что, она не нужна?
– Выпивка мне нужна. – Задница Браун хлебнул пива, которое производили из порошка-концентрата, содрогнулся и выплюнул его на бетонный пол. Оно тут же испарилось.
– Ну да, ну да! – Страшила энергично мотнул головой. – Бабу, а потом выпить. Что еще нужно новобранцу в увольнении?
Все на некоторое время погрузились в размышления, но в голову и в самом деле ничего не приходило. Только Усер выглянул из-под стола, где тайком надраивал чей-то башмак, и заявил, что не помешало бы побольше ваксы, но на него не обратили внимания. Билл, как ни старался, не мог представить ничего иного, кроме этих взаимосвязанных вещей. Хотя припоминал смутно, что на гражданке у него случались другие желания, но вот какие именно…
– Да ладно вам, – донеслось из-под стола. – До отпуска осталось только семь недель…
Усер не договорил, получив от каждого из сидящих по крепкому пинку.
Хотя в соответствии с их субъективными ощущениями время едва тащилось, сохраняющие полную объективность часы отмеряли его неустанно, и вот наконец одна за другой миновали эти недели – несомненно, самые длинные из всех длинных недель. В течение этого срока на что на что, а на недостаток занятий они пожаловаться не могли: штыковой бой, стрельба из ручного и автоматического оружия, чистка того и другого, ориентирование на местности, строевая подготовка, хоровое пение и в довершение – военное законодательство. Лекции по последнему предмету с беспощадной регулярностью читали дважды в неделю, изощренно вызывая непреодолимую сонливость. Как только из динамиков магнитофона раздавались первые идеально монотонные скрипучие слова, солдаты начинали клевать носом. Каждое место в аудитории было подключено к электроцефалографу, регистрирующему биотоки рекрутов. Стоило кривой альфа-ритма только намекнуть на то, что кто-то из слушателей задремал, незамедлительно в ягодицу несчастного посылался мощный импульс электрического тока, столь же болезненный, сколь эффективный для прерывания сна. Никогда не проветриваемая аудитория напоминала погруженную во тьму камеру пыток, заполненную монотонным бормотанием магнитофонного лектора над морем сонно покачивающихся голов; бубнящий голос время от времени заглушали вопли неожиданно подключенного к сети горемыки-обучаемого.
Бесконечное перечисление жестоких наказаний и приговоров, грозящих за самые пустяковые провинности, никого особенно не тревожило. Все прекрасно понимали, что, завербовавшись, они отказались от каких бы то ни было человеческих прав, и подробное перечисление того, чего рекруты лишились, нисколько больше их не занимало. Другое дело – подсчет часов, отделяющих их от первого отпуска.
Ритуал вручения этой чрезвычайно редкой и столь желанной награды был необыкновенно унизителен, но ведь ничего иного новобранцы и не ожидали, и, опустив головы, они стояли в очереди, готовые обменять остатки самоуважения на кусок помятой фольги. Наконец церемония закончилась, и тут же разгорелось сражение за место в монорельсовом поезде, курсирующем между лагерем имени Льва Троцкого и небольшим сельскохозяйственным городишком Лейвилем. Линия была проложена по эстакаде, вознесенной на столбы, всегда находилась под напряжением и шла над тридцатифутовым забором из колючей проволоки, а затем над окружающим лагерь поясом зыбучих песков.