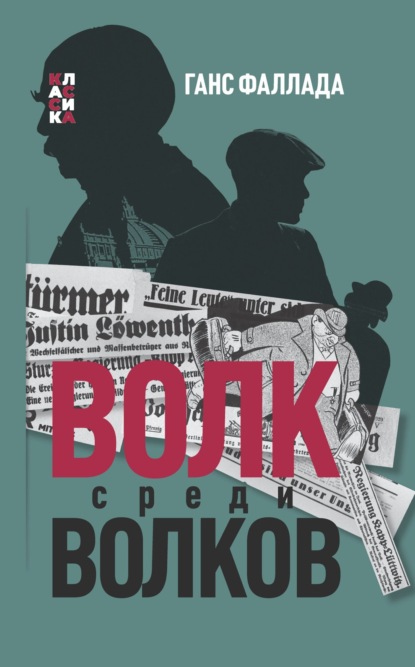По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Волк среди волков
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Не беспокойтесь, сидите, – говорит она. – Вы не мешаете.
У нее тоже приятный голос. «Люди в этом доме хорошо говорят, подумалось Вольфгангу. – Очень чисто, очень четко».
– Это ваш прибор, – говорит девушка гостю, который, ни о чем не думая, воззрился на бумажную салфетку. – Вы сегодня обедаете у нас.
Вольфганг делает бездумное, но отклоняющее движение. В нем просыпается беспокойство. Дом стоит совсем неподалеку от палаццо фон Цекке, и все же очень от него далеко. Но зачем же с ним разговаривают как с больным, нет, как с человеком, который в припадке безумия сделал что-то дурное и с которым говорят пока что бережно, чтоб не разбудить его слишком неожиданно.
Девушка сказала:
– Вы же не захотите огорчить Лизбет. – И, помолчав, добавила: – Барыня разрешила.
Она накрывает, позвякивает ножами и вилками – чуть-чуть, ее руки делают все проворно и бесшумно. Вольфганг сидит неподвижно, это, должно быть, какое-то оцепенение – от жары, конечно. «Как будто пришел с улицы нищий и ему с разрешения хозяев подают обед. Мама приказала бы Минне намазать маслом ломоть-другой хлеба, на кухню нищие не допускались. В лучшем случае подавалась через дверь тарелка супа, которую надо было выхлебать, сидя на лестнице.
Здесь, в Далеме, больше утонченности, но для нищего разница невелика: за дверьми ли он или на кухне, нищий остается нищим, и днесь, и присно, и навеки. Аминь!»
Он ненавидит себя за то, что не уходит. Не нужно ему никакого обеда, что ему обед? Он может пойти обедать к матери; Минна рассказывала, что там для него всегда ставится прибор. Ему не то что стыдно, но нечего разговаривать с ним как с больным, которого нужно щадить, он не болен! Только эти проклятые деньги! Почему он не выхватил у нее из рук свои жалкие бумажки? Он сейчас сидел бы уже в поезде метро…
Он нервно вынул сигарету, приготовился уже закурить, но девушка сказала:
– Пожалуйста, если можете потерпеть, не сейчас. Как только я отошлю кушанья. Барин так чувствителен к запахам…
Дверь раскрывается, и входит девочка, господская дочка лет десяти-двенадцати, светлая, радостная, легкая. Она, конечно, ничего не знает о злом, сером, чадном городе где-то там! Ей хочется посмотреть на нищего, по-видимому, в Далеме нищий и впрямь редкое явление!
– Папа едет, Трудхен, – говорит она девушке у плиты. – Через четверть часа можно подавать… Что на обед, Трудхен?
– Пришла по кастрюлям нюхать! – смеется девушка и снимает крышку. Поднимается пар, девочка деловито потягивает носом. Говорит:
– Ох, зеленый горошек, только и всего. Нет, правда, Трудхен, скажи!
– Суп, мясо и зеленый горошек, – говорит Трудхен, состроив постную мину.
– А потом? – настойчиво спрашивает девочка.
– А потом – суп с котом! – смеется нараспев девушка у плиты.
«Есть еще на свете и это, – думает Вольфганг с улыбкой и отчаяньем. Выходит, что есть еще. Мне только не приходилось этого видеть в моей конуре на Георгенкирхштрассе, вот я и позабыл. Но есть еще, как прежде, настоящие дети, невинность, неиспорченная, неведающая невинность. Еще важно спросить, что дадут на сладкое, когда сотни тысяч не спрашивают даже о хлебе насущном. Повальные грабежи в Глейвице и Бреславле, голодные бунты во Франкфурте-на-Майне, в Нейруппине, Эйслебене и Драмбурге…»
Он смотрит на ребенка, смотрит, не приемля. «Надувательство, – думает он, – искусственная невинность, боязливо охраняемая невинность, так же вот, как они вставляют решетки в окна. Но жизнь идет – что останется через два-три года от этой невинности?»
– С добрым утром! – говорит ему девочка. Она его только сейчас заметила, потому, может быть, что он отодвинул стул, чтобы встать и уйти. Он берет протянутую ему руку. У девочки темные глаза под ясным красивым лбом, она серьезно смотрит на него.
– Вы тот господин, который пришел с нашей Лизбет? – спрашивает она с сочувствием.
– Да, – говорит он и пробует улыбнуться в ответ на эту чрезмерную серьезность. – Сколько тебе лет?
– Одиннадцать, – говорит она вежливо. – И у вашей жены нет ничего, кроме пальто?
– Правильно, – говорит он и все еще пробует улыбнуться и принять легкий тон. Но проклятая это штука – услышать о своих делах в изложении постороннего, да еще ребенка! – И она ничего не ела и, верно, ничего не получит, ни даже мяса с макаронами.
Девочка, однако, и не заметила, что он хотел ее уколоть!
– У мамы так много вещей, – говорит она задумчиво. – Большую часть она даже не надевает.
– Правильно, все как полагается, – повторил он и сам себе показался жалок в своем дешевом молодечестве. – Такова жизнь. Ты это еще не проходила в школе? Нет?
Он все ничтожней, все мельче, особенно перед этими серьезными глазами, которые смотрят на него, смотрят почти печально.
– Я не хожу в школу, – говорит девочка с подчеркнутой, немного тщеславной серьезностью. – Ведь я слепая. – Опять тот же взгляд в упор, потом: – Папа тоже слепой. Но папа раньше видел. А я никогда не видела.
Она стоит перед ним, и у него, так неожиданно наказанного за свою дешевую насмешку, у него все усиливается чувство, будто девочка смотрит на него. Нет, не глазами, но, может быть, ясным лбом, смело изогнутыми, немного бледными губами. Точно слепой ребенок видит его лучше, чем зрячая Петра. Девочка рассказывает:
– Мама видит, но она говорит, что лучше бы и ей стать слепой, а то она не знает, как у нас на душе, у меня и у папы. Но мы ей этого не позволяем.
– Нет, – соглашается Вольфганг. – Вы этого, разумеется, не хотите.
– Фройляйн, и Лизбет, и Трудхен, и господин Гофман тоже рассказывают нам, что они видят. Но когда рассказывает мама, это совсем другое.
– Потому что это мама, да? – спрашивает осторожно Вольфганг.
– Да, – говорит девочка. – Папа и я, мы оба мамины дети. Папа тоже.
Он молчит, но девочка и не ждет ответа, вещи, о которых она говорит, представляются ей, должно быть, чем-то само собой понятным, да и что тут скажешь?
– У вашей жены есть еще мама? – спрашивает она. – Или у нее никого нет?
Вольфганг стоит с жалкой улыбкой на губах.
– Нет, у нее нет никого, – говорит он решительно. И думает: «Уйти! Скорее уйти!» В своем безлюбии, в своей половинчатости он получил нокаут от ребенка.
– Папа непременно даст вам денег, – объявила девочка. – А мама хочет сегодня после обеда поехать к вашей жене. Где это?
– Георгенкирхштрассе семнадцать, – говорит он. – На втором дворе, говорит он. – У госпожи Туман, – говорит он.
«Только бы ей помогли! – вскипает в нем. – Ей надо помочь! И она заслуживает помощи!»
Он ускользает, твой мир, в котором ты несся, бедный, опутанный, опутывая других. Вдруг, когда ты почувствовал, что она от тебя освобождается, ты замечаешь, как она тебе дорога. Ты изгнан во мрак, вдали еще мерцает свет, но гаснет и он. Ты один… Можешь ли ты вернуться назад, и вернешься ли, ты не знаешь! Были у нас хорошие часы, но они ушли в песок. Изредка еще привкус на губах, летучий, сладкий – и мимо! И прочь! Бедная Петра!.. Он в самом деле нищий, потому что теперь, когда близится поворот, быть может помощь, он чувствует, что помощь ему не поможет, потому что он пустой, выжженный и пустой. Мимо! Мимо!
– Ну, я пойду, – сказал он на всю кухню. Он подал руку девочке, кивнул головой, спросил: – Ты запомнила адрес? – и вышел. Вышел в зной, в тесный, беснующийся, неугомонный город, чтобы снова вступить в борьбу за хлеб и деньги – ради чего, ради кого?
Этого он не знал все еще, долго еще не знал.
6. Мейеру доверяют любовное письмо
Замком называли в Нейлоэ дом старого барина. Ротмистр фон Праквиц жил на добрых полкилометра в стороне, уже среди полей, вне усадьбы, в небольшой вилле. Шесть комнат в современном духе, неряшливая, успевшая обветшать постройка первых времен инфляции. Замок, из которого старый барин нипочем не согласился бы выехать, уже ради того, чтобы оставаться вблизи своих милых сосен и присматривать, кстати, за зятем, – замок представлял собой, правда, всего лишь желтый ящик, но комнат было в нем втрое больше, чем у молодых, и был здесь как-никак настоящий парадный подъезд и большая комната со сплошными стеклянными дверьми прямо в сад, именуемая «залой», был и парк.
Мейер-губан прошел мимо замка. Ему там нечего было искать, да он сегодня ничего и не искал, раз старая барыня изволит гневаться. Дальше, в неудобно близком соседстве – слишком уж на виду – стоял флигель для служащих, где помещалась контора и его, Мейера, комната (все прочее по установленной ротмистром системе экономии пустовало, но ведь ротмистр был великий человек).
Желая спросить у барышни, что ей сказал по телефону отец, Мейер прошел сперва к себе, вымыл руки и лицо. Потом он, не скупясь, вылил на грудь одеколон «Русская юфть», несомненно, самый правильный запах для деревни. Как гласила реклама: «крепкий, мужественный, благородный».
У нее тоже приятный голос. «Люди в этом доме хорошо говорят, подумалось Вольфгангу. – Очень чисто, очень четко».
– Это ваш прибор, – говорит девушка гостю, который, ни о чем не думая, воззрился на бумажную салфетку. – Вы сегодня обедаете у нас.
Вольфганг делает бездумное, но отклоняющее движение. В нем просыпается беспокойство. Дом стоит совсем неподалеку от палаццо фон Цекке, и все же очень от него далеко. Но зачем же с ним разговаривают как с больным, нет, как с человеком, который в припадке безумия сделал что-то дурное и с которым говорят пока что бережно, чтоб не разбудить его слишком неожиданно.
Девушка сказала:
– Вы же не захотите огорчить Лизбет. – И, помолчав, добавила: – Барыня разрешила.
Она накрывает, позвякивает ножами и вилками – чуть-чуть, ее руки делают все проворно и бесшумно. Вольфганг сидит неподвижно, это, должно быть, какое-то оцепенение – от жары, конечно. «Как будто пришел с улицы нищий и ему с разрешения хозяев подают обед. Мама приказала бы Минне намазать маслом ломоть-другой хлеба, на кухню нищие не допускались. В лучшем случае подавалась через дверь тарелка супа, которую надо было выхлебать, сидя на лестнице.
Здесь, в Далеме, больше утонченности, но для нищего разница невелика: за дверьми ли он или на кухне, нищий остается нищим, и днесь, и присно, и навеки. Аминь!»
Он ненавидит себя за то, что не уходит. Не нужно ему никакого обеда, что ему обед? Он может пойти обедать к матери; Минна рассказывала, что там для него всегда ставится прибор. Ему не то что стыдно, но нечего разговаривать с ним как с больным, которого нужно щадить, он не болен! Только эти проклятые деньги! Почему он не выхватил у нее из рук свои жалкие бумажки? Он сейчас сидел бы уже в поезде метро…
Он нервно вынул сигарету, приготовился уже закурить, но девушка сказала:
– Пожалуйста, если можете потерпеть, не сейчас. Как только я отошлю кушанья. Барин так чувствителен к запахам…
Дверь раскрывается, и входит девочка, господская дочка лет десяти-двенадцати, светлая, радостная, легкая. Она, конечно, ничего не знает о злом, сером, чадном городе где-то там! Ей хочется посмотреть на нищего, по-видимому, в Далеме нищий и впрямь редкое явление!
– Папа едет, Трудхен, – говорит она девушке у плиты. – Через четверть часа можно подавать… Что на обед, Трудхен?
– Пришла по кастрюлям нюхать! – смеется девушка и снимает крышку. Поднимается пар, девочка деловито потягивает носом. Говорит:
– Ох, зеленый горошек, только и всего. Нет, правда, Трудхен, скажи!
– Суп, мясо и зеленый горошек, – говорит Трудхен, состроив постную мину.
– А потом? – настойчиво спрашивает девочка.
– А потом – суп с котом! – смеется нараспев девушка у плиты.
«Есть еще на свете и это, – думает Вольфганг с улыбкой и отчаяньем. Выходит, что есть еще. Мне только не приходилось этого видеть в моей конуре на Георгенкирхштрассе, вот я и позабыл. Но есть еще, как прежде, настоящие дети, невинность, неиспорченная, неведающая невинность. Еще важно спросить, что дадут на сладкое, когда сотни тысяч не спрашивают даже о хлебе насущном. Повальные грабежи в Глейвице и Бреславле, голодные бунты во Франкфурте-на-Майне, в Нейруппине, Эйслебене и Драмбурге…»
Он смотрит на ребенка, смотрит, не приемля. «Надувательство, – думает он, – искусственная невинность, боязливо охраняемая невинность, так же вот, как они вставляют решетки в окна. Но жизнь идет – что останется через два-три года от этой невинности?»
– С добрым утром! – говорит ему девочка. Она его только сейчас заметила, потому, может быть, что он отодвинул стул, чтобы встать и уйти. Он берет протянутую ему руку. У девочки темные глаза под ясным красивым лбом, она серьезно смотрит на него.
– Вы тот господин, который пришел с нашей Лизбет? – спрашивает она с сочувствием.
– Да, – говорит он и пробует улыбнуться в ответ на эту чрезмерную серьезность. – Сколько тебе лет?
– Одиннадцать, – говорит она вежливо. – И у вашей жены нет ничего, кроме пальто?
– Правильно, – говорит он и все еще пробует улыбнуться и принять легкий тон. Но проклятая это штука – услышать о своих делах в изложении постороннего, да еще ребенка! – И она ничего не ела и, верно, ничего не получит, ни даже мяса с макаронами.
Девочка, однако, и не заметила, что он хотел ее уколоть!
– У мамы так много вещей, – говорит она задумчиво. – Большую часть она даже не надевает.
– Правильно, все как полагается, – повторил он и сам себе показался жалок в своем дешевом молодечестве. – Такова жизнь. Ты это еще не проходила в школе? Нет?
Он все ничтожней, все мельче, особенно перед этими серьезными глазами, которые смотрят на него, смотрят почти печально.
– Я не хожу в школу, – говорит девочка с подчеркнутой, немного тщеславной серьезностью. – Ведь я слепая. – Опять тот же взгляд в упор, потом: – Папа тоже слепой. Но папа раньше видел. А я никогда не видела.
Она стоит перед ним, и у него, так неожиданно наказанного за свою дешевую насмешку, у него все усиливается чувство, будто девочка смотрит на него. Нет, не глазами, но, может быть, ясным лбом, смело изогнутыми, немного бледными губами. Точно слепой ребенок видит его лучше, чем зрячая Петра. Девочка рассказывает:
– Мама видит, но она говорит, что лучше бы и ей стать слепой, а то она не знает, как у нас на душе, у меня и у папы. Но мы ей этого не позволяем.
– Нет, – соглашается Вольфганг. – Вы этого, разумеется, не хотите.
– Фройляйн, и Лизбет, и Трудхен, и господин Гофман тоже рассказывают нам, что они видят. Но когда рассказывает мама, это совсем другое.
– Потому что это мама, да? – спрашивает осторожно Вольфганг.
– Да, – говорит девочка. – Папа и я, мы оба мамины дети. Папа тоже.
Он молчит, но девочка и не ждет ответа, вещи, о которых она говорит, представляются ей, должно быть, чем-то само собой понятным, да и что тут скажешь?
– У вашей жены есть еще мама? – спрашивает она. – Или у нее никого нет?
Вольфганг стоит с жалкой улыбкой на губах.
– Нет, у нее нет никого, – говорит он решительно. И думает: «Уйти! Скорее уйти!» В своем безлюбии, в своей половинчатости он получил нокаут от ребенка.
– Папа непременно даст вам денег, – объявила девочка. – А мама хочет сегодня после обеда поехать к вашей жене. Где это?
– Георгенкирхштрассе семнадцать, – говорит он. – На втором дворе, говорит он. – У госпожи Туман, – говорит он.
«Только бы ей помогли! – вскипает в нем. – Ей надо помочь! И она заслуживает помощи!»
Он ускользает, твой мир, в котором ты несся, бедный, опутанный, опутывая других. Вдруг, когда ты почувствовал, что она от тебя освобождается, ты замечаешь, как она тебе дорога. Ты изгнан во мрак, вдали еще мерцает свет, но гаснет и он. Ты один… Можешь ли ты вернуться назад, и вернешься ли, ты не знаешь! Были у нас хорошие часы, но они ушли в песок. Изредка еще привкус на губах, летучий, сладкий – и мимо! И прочь! Бедная Петра!.. Он в самом деле нищий, потому что теперь, когда близится поворот, быть может помощь, он чувствует, что помощь ему не поможет, потому что он пустой, выжженный и пустой. Мимо! Мимо!
– Ну, я пойду, – сказал он на всю кухню. Он подал руку девочке, кивнул головой, спросил: – Ты запомнила адрес? – и вышел. Вышел в зной, в тесный, беснующийся, неугомонный город, чтобы снова вступить в борьбу за хлеб и деньги – ради чего, ради кого?
Этого он не знал все еще, долго еще не знал.
6. Мейеру доверяют любовное письмо
Замком называли в Нейлоэ дом старого барина. Ротмистр фон Праквиц жил на добрых полкилометра в стороне, уже среди полей, вне усадьбы, в небольшой вилле. Шесть комнат в современном духе, неряшливая, успевшая обветшать постройка первых времен инфляции. Замок, из которого старый барин нипочем не согласился бы выехать, уже ради того, чтобы оставаться вблизи своих милых сосен и присматривать, кстати, за зятем, – замок представлял собой, правда, всего лишь желтый ящик, но комнат было в нем втрое больше, чем у молодых, и был здесь как-никак настоящий парадный подъезд и большая комната со сплошными стеклянными дверьми прямо в сад, именуемая «залой», был и парк.
Мейер-губан прошел мимо замка. Ему там нечего было искать, да он сегодня ничего и не искал, раз старая барыня изволит гневаться. Дальше, в неудобно близком соседстве – слишком уж на виду – стоял флигель для служащих, где помещалась контора и его, Мейера, комната (все прочее по установленной ротмистром системе экономии пустовало, но ведь ротмистр был великий человек).
Желая спросить у барышни, что ей сказал по телефону отец, Мейер прошел сперва к себе, вымыл руки и лицо. Потом он, не скупясь, вылил на грудь одеколон «Русская юфть», несомненно, самый правильный запах для деревни. Как гласила реклама: «крепкий, мужественный, благородный».