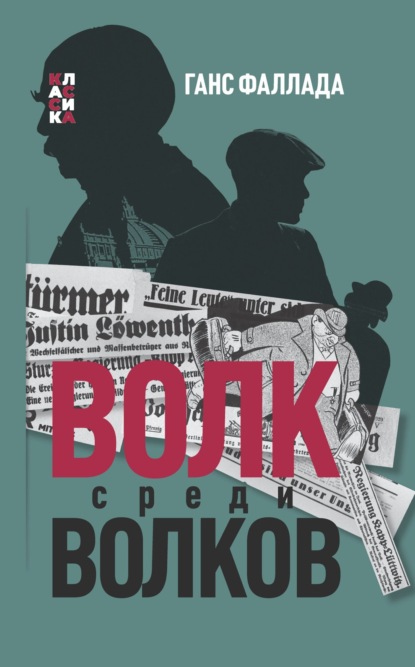По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Волк среди волков
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Деньги?.. Мусор! – отрезал ротмистр.
– Да, конечно, – ответил тихо Штудман. – Мусор, я тебя понимаю. Я и вопрос твой понял правильно, или скорее твою мысль. Почему я ради такого «мусора» работаю здесь на этой должности, работаю не по желанию, вот что ты имел в виду… – Праквиц попробовал бурно запротестовать. – Ах, не говори, Праквиц! – сказал фон Штудман впервые с какой-то теплотой. – Я же тебя знаю! «Деньги – мусор!»… это для тебя не только мудрость времен инфляции, ты и раньше мыслил в общем так же. Ты?.. Мы все! Во всяком случае, деньги были чем-то, само собою разумеющимся. Получали, кто сколько, из дому да еще кое-какие гроши в полку, о деньгах разговору не было. Если мы не могли за что-нибудь сразу уплатить, значит, пусть человек подождет. Так ведь это было? Деньги были чем-то таким, о чем не стоило думать…
Праквиц сомнительно покачал головой и хотел что-то возразить. Но Штудман опередил его:
– Извини меня, Праквиц, так оно, примерно, и было. Но сегодня я задаю себе вопрос… Нет, без всякого вопроса, я совершенно уверен, что все мы тогда решительно на этот счет заблуждались, мы понятия не имели о том, как устроен мир. Деньги, как я открыл позже, важная статья, о них очень стоит думать…
– Деньги! – возмутился фон Праквиц. – Будь то еще настоящие деньги! А то бумажный хлам…
– Праквиц! – сказал с укоризной Штудман. – А что значит «настоящие» деньги? Их не существует вовсе, как не существует и «ненастоящих» денег. Деньги – это просто то, без чего нельзя жить, основа жизни, хлеб, который мы должны есть каждый день, чтобы просуществовать, одежда, которую должны носить, чтоб не замерзнуть…
– Это все метафизика! – вскричал раздраженно фон Праквиц. – Деньги очень простая вещь! Деньги – это нечто иное… то есть так было раньше, когда еще ходила золотая монета, а с нею наряду и кредитки, но кредитки-то были совсем не те, потому что за них получали золото… Так что деньги, безразлично какие… Словом, ты меня понимаешь… – Он вдруг разозлился на самого себя, на свой бессмысленный лепет: неужели нельзя ясно и верно изложить то, что так ясно ощущаешь? – Словом, – заключил он, – имея деньги, я хочу знать, что я могу на них купить.
– Да, конечно, – сказал Штудман. Он точно и не заметил смущения друга и бодро продолжал развивать свою мысль. – Мы, конечно, ошибались. Я понял, что девяносто девять процентов бьются как рыба об лед ради денег, что они день и ночь думают о деньгах, говорят о них, распределяют их, экономят, прикидывают и так и сяк, и опять сначала – короче сказать, что деньги есть то, вокруг чего вертится мир. Что мы до смешного далеки от жизни, когда не думаем о деньгах, не хотим о них говорить – о самом важном на свете!
– Но разве это правильно?! – вскричал Праквиц в ужасе перед новым мировоззрением своего друга. – Разве достойно?.. Жить только для того, чтобы утолить свой жалкий голод?
– Конечно, неправильно. Конечно, недостойно, – согласился Штудман. – Но никто о том не беспокоится – так, мол, оно есть и пусть. Но если это так, нельзя закрывать на это глаза – этим нужно заняться вплотную. И если считаешь это недостойным, нужно задать себе вопрос: как это изменить?
– Штудман, – спросил фон Праквиц, в полном смятении и отчаянии, Штудман, а ты случайно не социалист?
На одну секунду отставной обер-лейтенант смутился, словно его заподозрили в убийстве из-за угла.
– Праквиц, – сказал он, – мой старый боевой товарищ, ведь социалисты думают о деньгах в точности то же, что ты! Только они хотели бы отнять у тебя деньги для себя самих. Нет, Праквиц, я отнюдь не социалист. И никогда им не буду.
– Но что же ты тогда? – спросил фон Праквиц. – Должен же ты в конце концов принадлежать к какой-нибудь группе или партии?
– Как так?.. – спросил фон Штудман. – Почему, собственно, должен?
– Да не знаю, – растерялся фон Праквиц. – Каждый из нас в конце концов к чему-то примыкает, – хоть те же выборы взять… Так или иначе надо же определиться, вступить в ряды. Просто, знаешь… этого требует порядочность!
– А если меня ваши порядки не устраивают? – спросил фон Штудман.
– Да… – протянул Праквиц. – Помню, – размечтался он вслух, – был у меня один паренек в эскадроне, один такой хлюпик, как мы тогда выражались, сектант один… как его звали?.. Григолейт, да, Григолейт! Очень приличный, порядочный человек. Но отказывался брать в руки ружье или саблю. Уговоры не помогали, зуботычины не помогали, взыскания не помогали. «Слушаюсь, господин лейтенант! – говорил он (я был тогда лейтенантом, дело было еще до войны), – но мне нельзя. У вас свой порядок, а у меня свой. А раз у меня свой порядок, мне нельзя его преступать. Когда-нибудь мой порядок станет и вашим…» Такой, понимаешь, человечек, сектант какой-то, пацифист, но приличного сорта пацифист, не из этих шкурников, которые кричат «долой войну!», потому что сами они трусы… Понятное дело, можно было легко превратить ему жизнь в сущий ад. Но старик наш был разумный человек и сказал: «Он просто несчастный идиот!» Так его и списали со счета по пятнадцатой, знаешь, статье – хроническая душевная болезнь…
Ротмистр, задумавшись, молчал; он, может быть, видел перед собой толстого Григолейта, круглоголового с льняными волосами, нисколько не похожего на мученика.
Но Штудман звонко расхохотался.
– Ох, Праквиц! – воскликнул он. – Ты все тот же! И знаешь, сейчас, когда ты выдал мне, сам того не замечая, свидетельство на идиотизм и хроническую душевную болезнь, это мне живо напомнило, как ты однажды, после маневров, чертовски неудачно проведенных нашим стариком, рассказал ему в утешение про одного майора, который умудрился на разборе маневров перед всем генералитетом свалиться с лошади и все-таки не получил синего конверта! А то еще, помнишь…
Друзья пустились в воспоминания, их речь зазвучала живей. Но это уже не имело значения. Кафе понемногу наполнялось. Деловито бегали кельнеры, разнося первые кружки пива, гудели голоса. Можно было вести разговор, не привлекая к себе внимания.
Однако через некоторое время, когда они вдосталь перебрали воспоминаний и вдосталь посмеялись, ротмистр сказал:
– Мне хочется, Штудман, спросить у тебя еще кое о чем. Я там сижу один на своем клочке земли, вижу и слышу все одних и тех же людей. А ты здесь, в столице, да еще на таком деле, ты, несомненно, слышишь и знаешь больше всех нас.
– Ах, кто сегодня что-нибудь знает! – ответил Штудман и улыбнулся. Поверь мне, сам господин премьер-министр Куно понятия не имеет, что будет завтра.
Но Праквица нелегко было сбить с толку. Он сидел, немного отклонясь назад, закинув одна на другую длинные ноги, покуривал в свое удовольствие и говорил:
– Ты, может быть, думаешь: Праквицу хорошо, у него поместье, он вышел в люди. Но я сижу непрочно, мне приходится быть очень осторожным. Нейлоэ принадлежит не мне, оно принадлежит моему тестю, старику фон Тешову, – я еще задолго до войны женился на Эве Тешов, – ах, извини, ты же знаком с моей женой! Так вот, я арендую у тестя Нейлоэ, и надо сказать, старый хрыч назначил за аренду немалую плату. Иногда меня одолевают гнуснейшие заботы… Во всяком случае, приходится быть очень осмотрительным. Нейлоэ наш единственный источник существования, и случись со мною что-нибудь… старик меня не любит, только дай ему повод, и он отберет у меня мой клочок земли.
– А что с тобой может случиться? – спросил Штудман.
– Видишь ли, я не отшельник, а уж Эва и вовсе не из этой породы; мы встречаемся помаленьку с разными людьми в нашей округе и, конечно, с товарищами из рейхсвера. Слышать приходится всякое. Люди кое о чем поговаривают, и прямо и обиняком.
– Ну и что же тебе приходилось видеть и слышать?
– Что опять должно что-то произойти, Штудман, опять! Мы не слепые, наш край кишмя кишит подозрительными личностями… называют себя рабочими командами, но посмотрел бы ты на них! Поговаривают шепотком и о Черном рейхсвере.
– Должно быть, в связи с контрольной комиссией Антанты, а по-нашему шпионской комиссией, – заметил Штудман.
– Разумеется… И то, что они зарывают оружие и опять выкапывают, стоит, надо думать, в той же связи. Но дело не только в этом, Штудман, поговаривают еще кое о чем, и еще кое-что наблюдается. Сомненья нет: идет вербовка и среди штатских – возможно, втянута и моя деревенька. Хозяин всегда узнает последним, что двор горит. Нейлоэ лежит рядом с Альтлоэ, а там много заводских рабочих, и они, понятно, на ножах с нами, помещиками, и с крестьянами из Нейлоэ. Потому что там, где одни сыты, а другие голодают, там всегда, как бочка с порохом… Случись ей взорваться, я тоже взлечу на воздух.
– Я пока не вижу, как мог бы ты что-нибудь предотвратить, – сказал фон Штудман.
– Предотвратить едва ли… Но, может быть, мне придется решать, участвую я или нет? Ведь не хочется вести себя не по-товарищески. В рейхсвере и сейчас еще есть наши старые товарищи, Штудман, и если они пойдут на риск и возьмутся вытаскивать телегу из грязи, а ты устранишься, так ведь будешь потом упрекать себя до самой смерти! А с другой стороны, может быть, это все пустая болтовня, затея кучки авантюристов, безнадежный путч – и рисковать ради него домом, и достатком, и семьей…
Ротмистр вопросительно смотрел на Штудмана. Тот сказал в ответ:
– Разве нет у тебя никого в рейхсвере, кого бы ты мог отвести в сторонку и спросить по чести и по совести?..
– Господи, спросить, Штудман! Понятно, я могу спросить, но кто же мне ответит? В таких случаях по-настоящему в курсе дела только три-четыре человека, а они ничего не скажут. Слышал ты когда-нибудь о майоре Рюккерте?
– Нет, – сказал Штудман. – Из рейхсвера?
– Да видишь ли, Штудман, в том-то и суть! Рюккерт и есть как будто тот единственный, кто… Но я никак не выведаю, из рейхсвера он или нет. Кто говорит – да, кто – нет, а самые хитрые пожимают плечами и говорят: «Этого он, пожалуй, и сам не знает!» Понимай, значит, так, что и за ним стоят другие… Право, голова пухнет, Штудман!
– Да, – сказал Штудман. – Понимаю. Если нужно будет, я готов… но ради пустой авантюры – благодарю покорно!
– Правильно! – сказал Праквиц.
Оба замолчали. Но Праквиц все еще с ожиданием и надеждой смотрел на Штудмана, в прошлом старшего лейтенанта, а ныне администратора гостиницы. (В полку он ходил под кличкой «нянька».) На человека наконец с весьма как будто примечательными, а в сущности очень подозрительными взглядами на деньги и на благословенную бедность. Смотрел на него так, точно ждал, что его ответ снимет все сомнения. И наконец этот Штудман медленно заговорил:
– Я думаю, тебе ни к чему отягчать себя такими заботами, Праквиц. Нужно попросту ждать. Ведь мы, собственно, знаем это по фронтовому опыту. Заботы, а то и страх приходили тогда, когда наступало затишье или когда мы лежали в окопах. Но как только раздавался приказ: «Вылазь и марш вперед!», – мы тотчас вылезали и шли, и все бывало забыто. Сигнал не пройдет мимо твоих ушей, Праквиц. На фронте мы же научились под конец спокойно, не рассуждая, ждать. Почему нельзя так же вести себя и сейчас?
– Ты прав! – сказал благодарно ротмистр. – Надо об этом подумать! Странно, что в наши дни люди совершенно разучились ждать! Я думаю, это из-за сумасшедшего доллара. Беги, лети, скорее покупай что-нибудь, не упусти, гонись…
– Да, – сказал Штудман. – Гнаться и знать, что за тобою гонятся, быть охотником и вместе дичью – это злит и делает нетерпеливым. Но и злость и нетерпение ни к чему. Однако мне пора… – улыбнулся он, – приходится спешить, я ведь тоже не ушел от общей участи. Швейцар, я вижу, подает мне знак. Верно, директор уже гоняет всех – как это меня нигде не видно! А я в свою очередь пойду подгонять горничных, чтобы к двенадцати в освободившихся номерах было убрано. Итак, Праквиц, счастливой охоты! Но если ты сегодня в семь часов будешь еще в городе и у тебя ничего не предвидится…
– В семь, Штудман, я уже давно буду у себя в Нейлоэ, – сказал фон Праквиц. – Но я в самом деле был страшно рад, страшно был рад снова с тобой повидаться, Штудман, и когда меня опять занесет в город…
4. Петра делает открытие
Девушка все еще сидела на кровати в комнате, одна, неподвижная, ничем не занятая. Голова была опущена, линия, идущая от затылка к шее и спине, была гибкая, мягкая. Маленькое, ясное, с чистыми чертами лицо, мягко вырисовывалось в воздухе, рот полуоткрыт, взгляд, уставленный в истертый пол, ничего не видит. Между разошедшимися полами пальто мерцало голое тело, смуглое, очень крепкое. Спертый воздух был полон запахов…
Совсем проснувшийся дом, крича, окликая, плача, хлопая дверьми и топоча по лестницам, шагал сквозь день. Жизнь выражалась тут прежде всего через шумы и затем через гниение, через вонь.
– Да, конечно, – ответил тихо Штудман. – Мусор, я тебя понимаю. Я и вопрос твой понял правильно, или скорее твою мысль. Почему я ради такого «мусора» работаю здесь на этой должности, работаю не по желанию, вот что ты имел в виду… – Праквиц попробовал бурно запротестовать. – Ах, не говори, Праквиц! – сказал фон Штудман впервые с какой-то теплотой. – Я же тебя знаю! «Деньги – мусор!»… это для тебя не только мудрость времен инфляции, ты и раньше мыслил в общем так же. Ты?.. Мы все! Во всяком случае, деньги были чем-то, само собою разумеющимся. Получали, кто сколько, из дому да еще кое-какие гроши в полку, о деньгах разговору не было. Если мы не могли за что-нибудь сразу уплатить, значит, пусть человек подождет. Так ведь это было? Деньги были чем-то таким, о чем не стоило думать…
Праквиц сомнительно покачал головой и хотел что-то возразить. Но Штудман опередил его:
– Извини меня, Праквиц, так оно, примерно, и было. Но сегодня я задаю себе вопрос… Нет, без всякого вопроса, я совершенно уверен, что все мы тогда решительно на этот счет заблуждались, мы понятия не имели о том, как устроен мир. Деньги, как я открыл позже, важная статья, о них очень стоит думать…
– Деньги! – возмутился фон Праквиц. – Будь то еще настоящие деньги! А то бумажный хлам…
– Праквиц! – сказал с укоризной Штудман. – А что значит «настоящие» деньги? Их не существует вовсе, как не существует и «ненастоящих» денег. Деньги – это просто то, без чего нельзя жить, основа жизни, хлеб, который мы должны есть каждый день, чтобы просуществовать, одежда, которую должны носить, чтоб не замерзнуть…
– Это все метафизика! – вскричал раздраженно фон Праквиц. – Деньги очень простая вещь! Деньги – это нечто иное… то есть так было раньше, когда еще ходила золотая монета, а с нею наряду и кредитки, но кредитки-то были совсем не те, потому что за них получали золото… Так что деньги, безразлично какие… Словом, ты меня понимаешь… – Он вдруг разозлился на самого себя, на свой бессмысленный лепет: неужели нельзя ясно и верно изложить то, что так ясно ощущаешь? – Словом, – заключил он, – имея деньги, я хочу знать, что я могу на них купить.
– Да, конечно, – сказал Штудман. Он точно и не заметил смущения друга и бодро продолжал развивать свою мысль. – Мы, конечно, ошибались. Я понял, что девяносто девять процентов бьются как рыба об лед ради денег, что они день и ночь думают о деньгах, говорят о них, распределяют их, экономят, прикидывают и так и сяк, и опять сначала – короче сказать, что деньги есть то, вокруг чего вертится мир. Что мы до смешного далеки от жизни, когда не думаем о деньгах, не хотим о них говорить – о самом важном на свете!
– Но разве это правильно?! – вскричал Праквиц в ужасе перед новым мировоззрением своего друга. – Разве достойно?.. Жить только для того, чтобы утолить свой жалкий голод?
– Конечно, неправильно. Конечно, недостойно, – согласился Штудман. – Но никто о том не беспокоится – так, мол, оно есть и пусть. Но если это так, нельзя закрывать на это глаза – этим нужно заняться вплотную. И если считаешь это недостойным, нужно задать себе вопрос: как это изменить?
– Штудман, – спросил фон Праквиц, в полном смятении и отчаянии, Штудман, а ты случайно не социалист?
На одну секунду отставной обер-лейтенант смутился, словно его заподозрили в убийстве из-за угла.
– Праквиц, – сказал он, – мой старый боевой товарищ, ведь социалисты думают о деньгах в точности то же, что ты! Только они хотели бы отнять у тебя деньги для себя самих. Нет, Праквиц, я отнюдь не социалист. И никогда им не буду.
– Но что же ты тогда? – спросил фон Праквиц. – Должен же ты в конце концов принадлежать к какой-нибудь группе или партии?
– Как так?.. – спросил фон Штудман. – Почему, собственно, должен?
– Да не знаю, – растерялся фон Праквиц. – Каждый из нас в конце концов к чему-то примыкает, – хоть те же выборы взять… Так или иначе надо же определиться, вступить в ряды. Просто, знаешь… этого требует порядочность!
– А если меня ваши порядки не устраивают? – спросил фон Штудман.
– Да… – протянул Праквиц. – Помню, – размечтался он вслух, – был у меня один паренек в эскадроне, один такой хлюпик, как мы тогда выражались, сектант один… как его звали?.. Григолейт, да, Григолейт! Очень приличный, порядочный человек. Но отказывался брать в руки ружье или саблю. Уговоры не помогали, зуботычины не помогали, взыскания не помогали. «Слушаюсь, господин лейтенант! – говорил он (я был тогда лейтенантом, дело было еще до войны), – но мне нельзя. У вас свой порядок, а у меня свой. А раз у меня свой порядок, мне нельзя его преступать. Когда-нибудь мой порядок станет и вашим…» Такой, понимаешь, человечек, сектант какой-то, пацифист, но приличного сорта пацифист, не из этих шкурников, которые кричат «долой войну!», потому что сами они трусы… Понятное дело, можно было легко превратить ему жизнь в сущий ад. Но старик наш был разумный человек и сказал: «Он просто несчастный идиот!» Так его и списали со счета по пятнадцатой, знаешь, статье – хроническая душевная болезнь…
Ротмистр, задумавшись, молчал; он, может быть, видел перед собой толстого Григолейта, круглоголового с льняными волосами, нисколько не похожего на мученика.
Но Штудман звонко расхохотался.
– Ох, Праквиц! – воскликнул он. – Ты все тот же! И знаешь, сейчас, когда ты выдал мне, сам того не замечая, свидетельство на идиотизм и хроническую душевную болезнь, это мне живо напомнило, как ты однажды, после маневров, чертовски неудачно проведенных нашим стариком, рассказал ему в утешение про одного майора, который умудрился на разборе маневров перед всем генералитетом свалиться с лошади и все-таки не получил синего конверта! А то еще, помнишь…
Друзья пустились в воспоминания, их речь зазвучала живей. Но это уже не имело значения. Кафе понемногу наполнялось. Деловито бегали кельнеры, разнося первые кружки пива, гудели голоса. Можно было вести разговор, не привлекая к себе внимания.
Однако через некоторое время, когда они вдосталь перебрали воспоминаний и вдосталь посмеялись, ротмистр сказал:
– Мне хочется, Штудман, спросить у тебя еще кое о чем. Я там сижу один на своем клочке земли, вижу и слышу все одних и тех же людей. А ты здесь, в столице, да еще на таком деле, ты, несомненно, слышишь и знаешь больше всех нас.
– Ах, кто сегодня что-нибудь знает! – ответил Штудман и улыбнулся. Поверь мне, сам господин премьер-министр Куно понятия не имеет, что будет завтра.
Но Праквица нелегко было сбить с толку. Он сидел, немного отклонясь назад, закинув одна на другую длинные ноги, покуривал в свое удовольствие и говорил:
– Ты, может быть, думаешь: Праквицу хорошо, у него поместье, он вышел в люди. Но я сижу непрочно, мне приходится быть очень осторожным. Нейлоэ принадлежит не мне, оно принадлежит моему тестю, старику фон Тешову, – я еще задолго до войны женился на Эве Тешов, – ах, извини, ты же знаком с моей женой! Так вот, я арендую у тестя Нейлоэ, и надо сказать, старый хрыч назначил за аренду немалую плату. Иногда меня одолевают гнуснейшие заботы… Во всяком случае, приходится быть очень осмотрительным. Нейлоэ наш единственный источник существования, и случись со мною что-нибудь… старик меня не любит, только дай ему повод, и он отберет у меня мой клочок земли.
– А что с тобой может случиться? – спросил Штудман.
– Видишь ли, я не отшельник, а уж Эва и вовсе не из этой породы; мы встречаемся помаленьку с разными людьми в нашей округе и, конечно, с товарищами из рейхсвера. Слышать приходится всякое. Люди кое о чем поговаривают, и прямо и обиняком.
– Ну и что же тебе приходилось видеть и слышать?
– Что опять должно что-то произойти, Штудман, опять! Мы не слепые, наш край кишмя кишит подозрительными личностями… называют себя рабочими командами, но посмотрел бы ты на них! Поговаривают шепотком и о Черном рейхсвере.
– Должно быть, в связи с контрольной комиссией Антанты, а по-нашему шпионской комиссией, – заметил Штудман.
– Разумеется… И то, что они зарывают оружие и опять выкапывают, стоит, надо думать, в той же связи. Но дело не только в этом, Штудман, поговаривают еще кое о чем, и еще кое-что наблюдается. Сомненья нет: идет вербовка и среди штатских – возможно, втянута и моя деревенька. Хозяин всегда узнает последним, что двор горит. Нейлоэ лежит рядом с Альтлоэ, а там много заводских рабочих, и они, понятно, на ножах с нами, помещиками, и с крестьянами из Нейлоэ. Потому что там, где одни сыты, а другие голодают, там всегда, как бочка с порохом… Случись ей взорваться, я тоже взлечу на воздух.
– Я пока не вижу, как мог бы ты что-нибудь предотвратить, – сказал фон Штудман.
– Предотвратить едва ли… Но, может быть, мне придется решать, участвую я или нет? Ведь не хочется вести себя не по-товарищески. В рейхсвере и сейчас еще есть наши старые товарищи, Штудман, и если они пойдут на риск и возьмутся вытаскивать телегу из грязи, а ты устранишься, так ведь будешь потом упрекать себя до самой смерти! А с другой стороны, может быть, это все пустая болтовня, затея кучки авантюристов, безнадежный путч – и рисковать ради него домом, и достатком, и семьей…
Ротмистр вопросительно смотрел на Штудмана. Тот сказал в ответ:
– Разве нет у тебя никого в рейхсвере, кого бы ты мог отвести в сторонку и спросить по чести и по совести?..
– Господи, спросить, Штудман! Понятно, я могу спросить, но кто же мне ответит? В таких случаях по-настоящему в курсе дела только три-четыре человека, а они ничего не скажут. Слышал ты когда-нибудь о майоре Рюккерте?
– Нет, – сказал Штудман. – Из рейхсвера?
– Да видишь ли, Штудман, в том-то и суть! Рюккерт и есть как будто тот единственный, кто… Но я никак не выведаю, из рейхсвера он или нет. Кто говорит – да, кто – нет, а самые хитрые пожимают плечами и говорят: «Этого он, пожалуй, и сам не знает!» Понимай, значит, так, что и за ним стоят другие… Право, голова пухнет, Штудман!
– Да, – сказал Штудман. – Понимаю. Если нужно будет, я готов… но ради пустой авантюры – благодарю покорно!
– Правильно! – сказал Праквиц.
Оба замолчали. Но Праквиц все еще с ожиданием и надеждой смотрел на Штудмана, в прошлом старшего лейтенанта, а ныне администратора гостиницы. (В полку он ходил под кличкой «нянька».) На человека наконец с весьма как будто примечательными, а в сущности очень подозрительными взглядами на деньги и на благословенную бедность. Смотрел на него так, точно ждал, что его ответ снимет все сомнения. И наконец этот Штудман медленно заговорил:
– Я думаю, тебе ни к чему отягчать себя такими заботами, Праквиц. Нужно попросту ждать. Ведь мы, собственно, знаем это по фронтовому опыту. Заботы, а то и страх приходили тогда, когда наступало затишье или когда мы лежали в окопах. Но как только раздавался приказ: «Вылазь и марш вперед!», – мы тотчас вылезали и шли, и все бывало забыто. Сигнал не пройдет мимо твоих ушей, Праквиц. На фронте мы же научились под конец спокойно, не рассуждая, ждать. Почему нельзя так же вести себя и сейчас?
– Ты прав! – сказал благодарно ротмистр. – Надо об этом подумать! Странно, что в наши дни люди совершенно разучились ждать! Я думаю, это из-за сумасшедшего доллара. Беги, лети, скорее покупай что-нибудь, не упусти, гонись…
– Да, – сказал Штудман. – Гнаться и знать, что за тобою гонятся, быть охотником и вместе дичью – это злит и делает нетерпеливым. Но и злость и нетерпение ни к чему. Однако мне пора… – улыбнулся он, – приходится спешить, я ведь тоже не ушел от общей участи. Швейцар, я вижу, подает мне знак. Верно, директор уже гоняет всех – как это меня нигде не видно! А я в свою очередь пойду подгонять горничных, чтобы к двенадцати в освободившихся номерах было убрано. Итак, Праквиц, счастливой охоты! Но если ты сегодня в семь часов будешь еще в городе и у тебя ничего не предвидится…
– В семь, Штудман, я уже давно буду у себя в Нейлоэ, – сказал фон Праквиц. – Но я в самом деле был страшно рад, страшно был рад снова с тобой повидаться, Штудман, и когда меня опять занесет в город…
4. Петра делает открытие
Девушка все еще сидела на кровати в комнате, одна, неподвижная, ничем не занятая. Голова была опущена, линия, идущая от затылка к шее и спине, была гибкая, мягкая. Маленькое, ясное, с чистыми чертами лицо, мягко вырисовывалось в воздухе, рот полуоткрыт, взгляд, уставленный в истертый пол, ничего не видит. Между разошедшимися полами пальто мерцало голое тело, смуглое, очень крепкое. Спертый воздух был полон запахов…
Совсем проснувшийся дом, крича, окликая, плача, хлопая дверьми и топоча по лестницам, шагал сквозь день. Жизнь выражалась тут прежде всего через шумы и затем через гниение, через вонь.