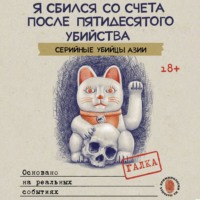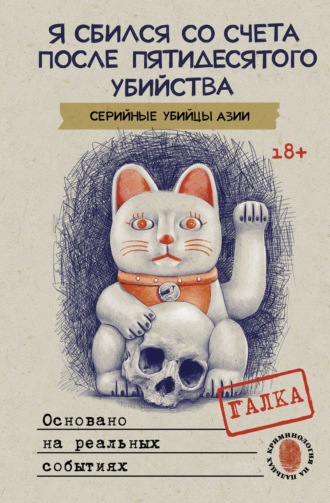
Я сбился со счета после пятидесятого убийства. Серийные убийцы Азии. Основано на реальных событиях
Вообще, весь инцидент в Ивазаке оставляет больше вопросов, чем предоставляет ответов. По одной из версий, активное освещение в прессе начала инцидента имело целью привлечь внимание общественности к проблеме бедняков. В те годы социальной политики не существовало, малоимущим помогали только в рамках благотворительности. Как уже было сказано, люди из высших слоев общества в течение всей своей жизни могли ни разу не столкнуться с представителями так называемого городского дна. Либерально настроенные владельцы газет стремились таким образом показать богатым, как живут бедные. И материал об убийствах невинных детей как нельзя лучше подходил для такой задачи. Подобная история мало кого оставит равнодушным.
Читатели наверняка жаждали продолжения. И это делает лаконичное окончание газетных публикаций еще более загадочным и нелогичным. Некоторые полагают, что репортеры перестали об этом писать под давлением свыше. Как было на самом деле, мы, скорее всего, уже не узнаем.
Трущобы в Токио, включая Итабаши, уничтожили американские бомбардировки сорок пятого года. Немногочисленные свидетельства их существования приобретают, таким образом, еще бо́льшую ценность.
Третий похожий инцидент произошел в 1933 году в Мэгуро, Токио. Тридцатитрехлетний Хацутару Кавамата был признан виновным в умерщвлении двадцати пяти детей. Первое убийство он совершил в 1928 году. Акушерка передала ему на попечение незаконнорожденную девочку, которую Кавамата задушил и выкинул. Это преступление быстро раскрыли, и убийца отправился в тюрьму. Через три года освободился и снова принялся за старое. Получал оплату за то, чтобы приютить у себя незаконнорожденных детей, которых вскоре убивал. По ночам он относил трупы в парк Сайгояма и там закапывал. По его словам, он спрятал там двадцать семь человек, но полиция обнаружила останки лишь двадцати пяти.
Как и в предыдущих случаях, власти предпочли скрыть подробности о состоянии тел и причины смерти. Неизвестно даже, проводились ли аутопсии. Позже, когда мы немного больше узнаем об отношении к ребенку в Японии тех времен, подобная халатность перестанет удивлять.
Хацутару Кавамата, убийца двадцати пяти детей, был приговорен к смертной казни, которая с 1868 года и по сей день в Японии осуществляется с помощью повешения.
Возвращаемся к задержанному директору похоронного бюро Рютаро Нагасаки. Он нехотя признался полиции, что получал младенческие трупы в родильном доме «Котобуки» в Янагимати. Нехотя, потому что получал за каждое такое «тихое» погребение неплохое вознаграждение – пятьсот иен (около пяти тысяч иен сегодняшними деньгами, или сорок пять долларов США). Очень скоро роддом «Котобуки» стал для него любимым и постоянным клиентом. По словам Нагасаки, ему не показались странными ни количество умиравших детей, ни тот факт, что никто не приходил с ними проститься. И в это не так-то трудно поверить, если знать немного больше о жизни в Японии тех лет.
После поражения во Второй мировой войне в стране разразился небывалый экономический кризис. В разрушенных городах миллионы людей остались без крыши над головой. Ощущалась острая нехватка продовольствия, вызванная прожорливыми потребностями войны, плохими урожаями и сокращением импорта из Кореи, Китая, Тайваня. После поражения территория Японии значительно сократилась: она лишилась, по подсчетам ученого и инженера Аки Коичи, почти сорока пяти процентов своих довоенных владений. В стране остановились многие производства, и товары повседневного спроса исчезли из продажи.
Ситуацию усугубляла репатриация – возвращение японцев, которые до войны проживали на подконтрольных Японии территориях в Юго-Восточной Азии. Свыше пяти миллионов человек вынуждены были вернуться на родину, где их никто не ждал: ни жилья, ни работы для репатриантов предусмотрено не было. Вернувшиеся должны были заново отстраивать свою жизнь на новом месте, без каких-либо государственных программ поддержки и финансирования.
Неудивительно, что в больших городах вспыхнули настоящие эпидемии алкоголизма и наркомании. В зоне риска оказалась прежде всего молодежь, наблюдавшая крушение прежних идеалов, но не видевшая пути спасения. Все, о чем говорилось до войны: о величии и избранности японской нации, о единстве и героизме, о будущем материальном процветании – оказалось пустышкой. Сотни тысяч покалеченных возвращались с войны, столько же осталось после разрушения американцами Хиросимы и Нагасаки. И ради чего все эти жертвы?
Упадничество и нигилизм так пропитали общество, что возникло понятие «состояние кёдацу» – состояние летаргии. Людям хотелось забыться, уснуть и никогда не просыпаться. Наряду с черными рынками, где можно было достать все что угодно – были б деньги! – процветали питейные и развлекательные заведения. Как это обычно бывает, времена нужды и потрясений для одних становятся временами колоссальной прибыли для других. Стоит только подсуетиться и предложить то, на что существует спрос.
Так поступила и героиня нашей сегодняшней истории. Самое время с ней познакомиться.
После показаний директора похоронного бюро Рютаро Нагасаки полиция стала наводить справки о роддоме «Котобуки». Это было небольшое частное заведение, которым управляла пятидесятидвухлетняя акушерка по имени Миюки Исикава. Женщина на руководящей должности в Японии тех времен – явление примечательное. Чтобы достичь такого уровня, требовались, без преувеличения, выдающиеся качества и способности.
Биография Миюки это подтверждает. На всех этапах своего жизненного пути она проявляла себя как личность неординарная. Кажется, с самых ранних лет Миюки делала все наперекор господствующим на тот момент социальным нормам. К сожалению, в пожарах войны многие японские архивы были безвозвратно утеряны. Поэтому кое-какие подробности биографии Миюки навсегда останутся неизвестны. Но те немногие вехи ее земного пути, о которых мы знаем, достаточно красноречивы.
Миюки Исикава появилась на свет в 1897 году, или, как сказали бы японцы, в тридцатый год Мэйдзи. Местом ее рождения стал небольшой уезд Хигаси Мориката в префектуре Миядзаки. Эта префектура расположена на острове Кюсю – третьем по величине острове Японского архипелага – и славится красивыми пляжами. Существует легенда, что именно здесь зародилась когда-то великая японская цивилизация.
О семье, в которой родилась Миюки, ничего не известно. Однако можно догадаться, что она была достаточно обеспеченной и придерживалась прогрессивных взглядов, ведь дочери позволили учиться. Начальное образование было провозглашено законом как обязательное еще в 1872 году. И девочки, и мальчики обязаны были ходить в школу. Однако получение последующего образования, а особенно высшего, для представительниц женского пола оставалось нежелательным.
Даже в наше время это серьезная проблема. По данным японского Национального центра женского образования, университеты страны по-прежнему выпускают больше мужчин, чем женщин. Причиной тому глубоко укоренившиеся архаичные стереотипы о гендерной реализации. Для женщин в Японии она возможна главным образом в кругу семьи. И если такие представления о роли женщины существуют в нынешней высокотехнологичной Японии, то можно представить ситуацию в конце девятнадцатого века – времени, когда росла Миюки Исикава.
Для девочек достаточно было уметь читать, писать и производить в уме несложные арифметические операции. Однако Миюки это не устраивало, и в возрасте восемнадцати лет она покинула родительский дом и отправилась в Токио. Ее интересовали естественные науки, а больше всего – загадка под названием человек. Девушка успешно сдала вступительные экзамены и получила место в учебном центре акушерства при больнице Токийского университета. Неизвестно, чем был обусловлен такой выбор: искренним интересом к младенцам и материнству или тем (и это звучит гораздо более вероятно), что в те времена женщине было позволено проявить себя только в этой области медицины.
Миюки сняла комнату в доме неподалеку от больницы и начала самостоятельную жизнь. Днем училась в амбулатории, вечерами зубрила лекции. Такая жизнь подразумевает, что ее родители не только были относительно богаты, но и одобряли выбор дочери, поскольку регулярно снабжали ее деньгами. И Миюки, судя по всему, тратила все средства на учебники и рабочие инструменты. Всю жизнь ей будут свойственны практичность и бережливость.
Спустя пять лет, уже завершив образование, Миюки знакомится со своим будущим мужем – молодым парнем по имени Такеши Исикава. Он был старше Миюки на шесть лет и родился в префектуре Ибараки, расположенной на острове Хонсю. После школы поступил в сельскохозяйственный техникум, но через два года бросил учебу и записался добровольцем на действительную военную службу. Был демобилизован сержантом военной полиции и в 1919 году стал работать в столичном отделении полиции. За восемь лет службы работал на станциях Янака, Одзи и других. Особых успехов в профессии не достиг. Во всяком случае, нет никаких данных, что он участвовал в серьезных операциях или был представлен к награде.
В 1926 году Такеши уволился по собственному желанию и посвятил себя помощи делу жены. Миюки к тому моменту уже успела сделать выдающуюся по меркам того времени для женщины карьеру. Она стала председательницей Токийской столичной ассоциации акушерок и со временем открыла собственный частный роддом.
Здесь нужно уточнить, что система роддомов в Японии тех времен выглядела совсем не так, как мы привыкли. Поэтому поговорим о ней чуть подробнее.
По словам Бретт Иимуры, директрисы японо-американского Образовательного центра по вопросам родовспоможения, акушерок в Японии всегда высоко ценили. Это уважение было столь велико, что в эпоху феодального правительства они, акушерки, не подпадали под действие запрета пересекать процессию феодала или его вассалов. Любой другой простолюдин мог быть казнен за одно неосторожное движение или взгляд в сторону правителя, когда тот проезжал по улицам города или деревни. Закон предписывал падать ниц и смотреть в землю, пока процессия не скроется из виду. Но акушерке достаточно было сказать, что спешит на роды, и она могла спокойно продолжить свой путь.
С модернизацией страны в период Мэйдзи в Японию стали проникать западные идеи. В медицине, экономике, городском планировании и других сферах произошли значительные изменения. Деятельность акушерок попала под государственное регулирование в рамках недавно созданного Бюро гигиены. Первоначально акушеркой могла называться только женщина старше сорока лет, но в самом конце девятнадцатого века, в 1899 году, возрастной ценз был снижен до двадцати лет. Эти новые акушерки занимались не только ведением беременности и помощью при родах, но и служили проводницами идей общественной гигиены. К 1930 году в Японии было более пятидесяти тысяч зарегистрированных акушерок. Акушерство считалось респектабельной и хорошо оплачиваемой женской профессией.
После Второй мировой войны была распущена созданная в 1927 году Ассоциация акушерок Японии. В 1947 году само слово «акушерка» претерпело изменения. Первоначальное слово «санба» (от «сан» – рождение и «ба» – старуха) изменили на «дзосан-пу» (от «дзосан» – роды и «пу» – женщина). Уже в наше время, в 2002 году, и это слово заменили гендерно нейтральным «дзёсан-ши» (от слов «дзёсан» – помощь и «ши» – учитель).
Когда молодая акушерка Миюки Исикава начала свой профессиональный путь, в стране еще царили почет и уважение к ее профессии. Помимо профессиональных качеств Миюки отличали общительность и жажда социальной деятельности. В 1947 году она даже баллотировалась в городское управление Синдзюку от Либеральной партии, но на выборах не набрала нужного количества голосов.
Миюки сосредоточила все свои силы на работе. Своих детей у них с Такеши не было. По сознательному ли выбору, или вследствие проблем со здоровьем у кого-то из супругов – неизвестно. Однако известно, что с ними долгое время проживали трое детей, которые считались приемными.
Роддом «Котобуки», которым управляли Миюки и Такеши, представлял собой обычный деревянный дом в традиционном стиле. От стоящих рядом зданий его отличала только вывеска. Женщины приходили сюда сами, когда чувствовали приближение родов, и размещались на полу в одной из комнат за бумажными перегородками. По воспоминаниям бывшей клиентки заведения, всего таких палат за перегородками было около семи, но они редко заполнялись все разом. Обычно в роддоме находились три-четыре клиентки.
Миюки сначала участвовала в каждых родах, но впоследствии смогла нанять помощников и помощниц, которые выполняли всю медицинскую и техническую работу. Миюки же занималась в основном финансовой и административной стороной дела. Они с мужем жили там же, в роддоме, занимая небольшую комнатку на втором этаже. Это было удобно: помощники всегда могли позвать более опытную Миюки к роженице, если что-то шло не так. Таким образом, частная жизнь и работа сплелись для супругов в одно целое.
Сохранились две фотографии Миюки, сделанные в годы расцвета ее карьеры. На них – средних лет женщина с круглым открытым лицом, с гладко зачесанными назад черными волосами. Миюки одета в скромное кимоно темного цвета с горизонтальными светлыми полосками. На лице – большие круглые очки с толстыми линзами. На обеих фотографиях на заднем плане можно увидеть корешки книг. На одном из снимков Миюки сидит за столом и пишет что-то чернильным пером. Ее лицо не выражает никаких эмоций. Во всем облике ни слабости, ни кокетства, ни попыток понравиться – ничего из того, что считается женственным или привлекательным. Перед нами человек, который любит читать, размышлять и пребывать в одиночестве.
В то же время мы знаем, что ее предприятие было довольно успешным, а сама Миюки пользовалась авторитетом в профессиональных кругах. Она везде успевала, все выполняла, обо всем умела договориться с самым выгодным для себя результатом. На первый взгляд кажется, что перед нами типичная карьеристка, женщина, которая сделает все, чтобы добиться своего. Но с фотографий на нас смотрит мягким задумчивым взглядом совсем другой человек. Какая из них была настоящей Миюки? И вообще возможно ли было женщине в Японии того времени быть собой настоящей? По ходу этого рассказа мы узнаем Миюки ближе. Но чем больше мы будем о ней узнавать, тем меньше мы будем ее понимать.
Как уже отмечалось, послевоенные годы в Японии были омрачены социально-экономическими трудностями. А в любые неспокойные времена тяжелее всего приходится наиболее незащищенным категориям населения – женщинам и детям. Приход к власти милитаристов и участие в двух войнах – Китайской и Второй мировой – привели к тому, что значительная часть мужского населения была задействована в военных действиях за пределами страны. Для женщин это обернулось прежде всего увеличением рабочей нагрузки. Многие виды работ, которые ранее выполнялись мужчинами, теперь легли на женские плечи. Так было во всех странах, участвовавших в войне, но в Японии ситуация для женщин сложилась наиболее неблагоприятным образом.
С самого начала двадцатого столетия женщины в Японии составляли значительную часть рабочей силы на предприятиях легкой промышленности, в первую очередь на шелковых и текстильных фабриках. Большинство из них были крайне бедны или не замужем. От женщины ожидалось, что после вступления в официальный брак она перестанет работать вне дома и посвятит себя служению семье. При этом, если дело происходило в сельской местности, в обязанности жены входила и работа на полях и фермах. Но этот труд, в отличие от работы на фабрике, не оплачивался. Считалось, что, если замужняя женщина будет работать где-то за зарплату, это унизит ее мужа, поскольку покажет, что тот не в состоянии прокормить семью. Таким образом, после замужества рабочая нагрузка для женщины не снижалась, а в некоторых случаях, наоборот, возрастала. Но теперь она работала бесплатно. Услужливость, покорность и заботливость – такие качества провозглашались обязательными для хорошей жены. Первые четыре десятилетия двадцатого века именно такой образ жены, матери и домохозяйки превалировал в японском обществе.
Когда в 1937 году развернулись боевые действия на Тихом океане, именно традиционные взгляды не позволил японскому правительству мобилизовать женщин, несмотря на большие человеческие потери. Война словно была отдельно от женщин, где-то там, далеко, в мужском мире.
Но защитный кокон очень быстро треснул по швам. Реальность бесцеремонно вторглась и в женский мир.
В первые годы войны женщины вступали в многочисленные волонтерские организации, что, однако, не подразумевало тяжелый физический труд. Но к 1943 году многочисленные человеческие потери не оставили иного выхода, кроме как привлечь женщин к работе на производстве. Пропаганда стала призывать всех трудоспособных женщин присоединиться к труду на благо родины. В 1944 году более четырех миллионов женщин вступили в ряды добровольного трудового отряда. Они работали в семнадцати индустриальных секторах, таких как авиастроение, производство электротехники и боеприпасов, фармацевтика, текстиль и другие.
Однако общественные стереотипы меняются не так быстро, как фактические условия существования. Женский труд оплачивался ниже мужского, поскольку работа за зарплату по-прежнему считалась оскорбительной.
Недостаток продовольствия тоже ударил в первую очередь именно по женщинам. Нужно было не только исхитриться найти где-то продукты на всю семью, но после этого еще и выстоять за ними длинные очереди. Общественные нормы предписывали заботиться в первую очередь о мужчинах, ведь те все еще значились главными работниками и опорой страны. Поэтому в семьях часто случалось так, что женщина отдавала свою часть пайка мужу, несмотря на то что работали супруги наравне. Впрочем, те, у кого был муж, считались редкими счастливицами. Многие остались вдовами: их мужья погибли либо пропали без вести за пределами Японии.
Но, несмотря на большие человеческие потери – Япония потеряла около двух миллионов солдат, – сразу после войны над страной нависла угроза перенаселения. Причиной тому репатриированные из бывших колоний, а также беби-бум, случившийся между 1947 и 1949 годами. Число рождений в этот период превышало два с половиной миллиона в год.
Этот всплеск рождаемости был временным – после 1948 года цифры стали снижаться. Тому способствовала доступность контрацепции, большую роль в популяризации которой сыграли американские оккупанты. Тогда это считалось важной проблемой: правительство Макартура опасалось, что с ростом населения страну захлестнут волны голода, безработицы и инфекционных заболеваний.
Однако во время войны и сразу после нее контрацептивы достать было непросто, и на свет появлялись дети, которых никто не ждал. Стала пользоваться популярностью практика передачи младенцев на попечение. Государственных учреждений, которые заботились бы о таких детях, не существовало. Поэтому сделки заключались негласно, между частными лицами. При этом родители отдаваемого ребенка выплачивали «попечителю» значительные денежные суммы – так называемые алименты. Это могли быть регулярные выплаты либо единовременный платеж. Стандартной суммы не существовало, все зависело от договоренности. Явление столь распространилось, что в ежедневных газетах можно было встретить рекламу частных лиц и заведений, принимавших на попечение детей разных возрастов.
Работая директрисой роддома, Миюки Исикава стала замечать, что не все родившие женщины стремятся вернуться домой с младенцем на руках. Было видно, что некоторые из них тяготятся новым статусом, буквально не знают, что делать с появившимся на свет новым человеческим существом. Будучи умной и проницательной, Миюки угадала в этих женщинах то, в чем они боялись признаться даже самим себе, а именно – нежелание быть матерями. Иные не хотели этого вообще: беременность, а возможно, и сам половой акт, случились помимо их воли. Другие же в целом были не против материнства, но не здесь и не сейчас: слишком непросто выживать в послевоенной Японии даже в одиночку, на заботу о другом человеке сил уже не остается.
Тогда Миюки придумала переоборудовать часть своего заведения под детские комнаты, в которых можно было бы содержать младенцев-отказников. Статус такого «мини-детдома» давал некоторые привилегии, связанные с получением продовольствия – можно было претендовать на дополнительные сахар, рис и сухое молоко. Собственно, эта идея не была уникальной: такие заведения по уходу за детьми были в те годы очень популярны. В Токио существовали два государственных детдома, в Сетагая и Киёсе, но там помещались всего двести человек. А детей рождалось очень много. Поэтому приходилось отдавать их в частные заведения вроде роддома «Котобуки».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Японские традиционные ныряльщики за водорослями, моллюсками и жемчугом.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: