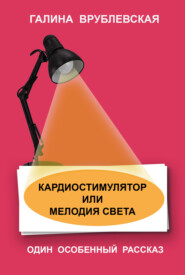По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Поцелуев мост
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я, признаюсь, не вижу мелких деталей, например черт твоего лица, но цвет я чувствую. Он же имеет волновую природу, помнишь из школьного курса физики?
Я помнила не только из курса физики, но из истории собственной болезни. На пике ее я тоже ощущала цвет по его излучению, но теперь, после наступившего в здоровье улучшения, это мое второе зрение закрылось. Я верила, что Рената смотрит не только глазами.
– И все же, Лена, послушай меня. На белом фоне ты не получишь достаточной глубины объема, даже с помощью мебели. Я бы тебе посоветовала…
Рената с увлечением живописала вариант, на ее взгляд оптимальный: разноцветные панели на стенах, фальшокна в коридоре, синие потолки…
– Извини, Ренаточка. Твои фантазии интересны, но лучше мы воплотим их в галерее. Оформлять свою квартиру я предпочитаю сама. Поэтому я и поручила Гальчику отделать ее в нейтральных тонах, чтобы потом не стеснять себя в выборе мебели.
Рената пожала плечами. Затем, изучающе посмотрев на меня полуслепым глазом, попросила:
– Разреши, Лена, мне твое лицо пальцами посмотреть. Они более зрячи, чем мои глаза.
Я подошла ближе к своей новой приятельнице и сама приложила ее ладони к своим щекам. Странное чувство беспокойства охватило меня. С закрытыми глазами я ощущала движения пальцев Ренаты с волнением – щекочущие, чуть волнующие, слегка пугающие.
Рената отступила и присела на матрасик, по-прежнему лежащий на полу. Пока он исполнял роль гостевого диванчика. Я вспомнила Ренату на ее собственном тюфячке, расслабленную и пьяноватую. Сейчас она была напряжена.
– Мне жаль тебя, Лена. Из пяти подаренных тебе природой чувств ты, наверное, используешь лишь зрение и слух. Но ощущение пребывает в тебе в вечном покое. Я чувствовала, как ты напряглась, почти испугалась, когда я ощупывала тебя. Ты боишься прикосновений, хотя осязание – высшее чувство, дарованное людям.
Знаешь, когда у меня случилась беда со зрением, я думала, что жизнь для меня закончилась. Тем более для меня в моей профессии. Однако тебе известно, что Бетховен сочинял свою музыку, будучи глухим. Так и я, почти потеряв зрение, проникла в такие тайны натуры, о каких прежде и не помышляла. Правда, я теперь сосредоточилась на скульптуре, доверилась своему осязанию. Не обедняй себя, Леночка, почаще прикасайся к миру.
Я выслушала ее с легкой обидой за себя и свою жизнь. Обидно было слышать о своей ущербности. Да, у кого-то на высоте зрение, у других – слух, обоняние. Но превозносить физическое чувствование? Мне всегда казалось, что это качество – особенность примитивных личностей. Они видят лишь маленькую толику огромного мира, как слепые – слона в известной притче. Чем меньше осязаемого, материального в жизни человека, тем он духовнее. Чистая мысль – вот предел совершенства.
Рената продолжала говорить обо мне:
– Черты твоего лица кричат, что ты живешь в напряжении, не доверяешь миру. Крепко сжатые губы, напряженные ноздри, морщинка на переносице. Тебя что-то тревожит, беспокоит будущее?
– Вовсе нет. – Я присела на матрасик рядом с Ренатой. – Я живу сегодняшним днем. Завтра может и не быть.
Странное мировоззрение. При таком отношении к жизни человек должен сорваться с катушек, веселиться напропалую. Но за тобой я не замечаю легкомыслия. Что же для тебя значит: жить одним днем?
– Для меня это – жить, не жалея себя. Отдавать людям душу, ум, силы… – Я замолчала, смутившись высокопарности слов.
– Но эти браслетики, ожерелья на тебе, каждый раз новые – не слишком ли суетная забота для последнего дня?
Да, надо или помалкивать о своем взгляде на жизненные ценности, или быть откровенной до конца. Мое понимание мира пришло ко мне после жутких испытаний. Не захотелось скрывать от Ренаты свои обстоятельства.
Мы сидели с ней на полу, на матрасе, как на плотике в океане, – потерпевшие кораблекрушение одинокие женщины. Что страшнее: почти потерять зрение, как Рената, или заглянуть в темную бездну, как я? Преодолевая себя, я рассказала ей все. О том, что переболела энцефалитом, об осложнениях после него. Как падала на грудь моя голова и не подымались руки. Как в Англии мне сделали операцию, вернули свободу движений и укрепили мышцы шеи. Как теперь я вынуждена постоянно носить ожерелье. Также поведала и об Игоре. Призналась, что мы были вместе до моей болезни, но он оставил меня после трагедии.
– Вот почему между вами чувствовалось какое-то напряжение! Однако мне трудно поверить, что Игорь Дмитриевич способен на предательство. Может, обстоятельства вынудили его так поступить? Он мне кажется достойным человеком. И совсем не похож на чванливого бизнесмена. Между вами была любовь-дружба?
– Странное сочетание, правда? Но именно так я и охарактеризовала бы наши отношения.
– А твой последний муж, Олег Нечаев? Почему ты вышла за него, если любила Игоря?
– Олег был очень одинок, хотя и очень богат. Он помог мне с лечением и окружил заботой. Я казалась ему воплощением каких-то грез, связанных с его матерью.
– И в чем проявлялась его забота?
– Даже в мелочах. Олег сам ездил со мной по магазинам и покупал все платья, до которых я лишь дотрагивалась. Брал билеты в ложи лучших театров на все премьеры. Возил на курорты.
– И тебе не было скучно с ним?
– Он укрепил мою самооценку. Я вновь почувствовала себя привлекательной и почти здоровой. Представь, когда ты впервые надеваешь вечернее платье от модного кутюрье, а на тебя смотрит любящий мужчина… Ты бы устояла?
– А ты была с ним счастлива как женщина?
– Ты имеешь в виду интим? Тут и говорить не о чем. Олег не был гигантом, да и я после болезни растеряла пылкость. Я была спокойна и почти счастлива.
– Но ты же еще не старая!
– Не суди по внешнему виду, Рената. Иногда болезнь наделяет прозрачностью, делает человека моложавым. Возможно, это мой случай. Но хватит обо мне! Лучше, Ренаточка, приоткрой свои тайны. У тебя есть кто-нибудь?
Был одно время пожилой художник, но теперь состарился вконец, ему уже шестьдесят. И вспомнил о жене. Мы, правда, остались друзьями, однако каждый живет своей жизнью. Ты, наверное, слышала его имя – Филипп Шиманский. Я покачала головой.
– Правда, и мне сейчас не до амуров. Отец-инвалид на руках, сама на один глаз слепая.
И тут же другой, живой глаз Ренаты затуманился грустной поволокой. Но его сосед, стеклянный обманщик, был по-прежнему невозмутим и прозрачен. Я нашла в себе силы и впервые рассмотрела его: он казался дорогим изумрудом, по ошибке вставленным не на свое место. Будто Рената в своих художественных изысках и экспериментах не пощадила и себя. Я обняла молодую художницу и погладила по плечу.
– Не грусти. Все у нас будет хорошо. Развернемся с галереей, выставим твои скульптуры, привлечем других мастеров. Мы с тобой еще вкусим праздник жизни. Хватит горевать, пора работать. Идем в галерею!
***
Через четверть часа мы подходили к скверику перед нашей галереей. Ну и жара выдалась этим летом! Газон перед особнячком частью выгорел от солнца, а частью полысел от паркующихся авто. Сейчас здесь громоздился чуть побитый, грязно-бежевого цвета микроавтобус. Прежде такой мог быть на службе скорой помощи. Рядом с машиной размеренно махал метлой по песчаной дорожке субтильного сложения мужчина, облаченный в дворницкий ярко-оранжевый жилет, надетый на голое тело. Его ритмичные движения выглядели молодцеватым танцем под звучащую на улице громкую музыку радиоприемника, выставленного на подоконнике первого этажа. Обычно под такие песни солдаты маршируют на плацу. Везет мне нынче на меломанов! Дворник стоял к нам спиной и не замечал нас. Рената неожиданно дернула меня за рукав и потащила в другую сторону:
– О, я вижу, тут монумент, ну и махина! Сейчас посмотрим, что это за шедевр. – Рената ловко, как обезьянка, вскарабкалась на скульптуру и стала ощупывать ее детали.
Я разглядывала скульптуру с земли. Парная композиция: старик-производственник с большими, выпирающими над губой бронзовыми усами торжественно вручал рабочий молоток ученику-ремесленнику. Так сказать, символическая передача традиций. Правда, присутствие живой Ренаты, в обтягивающих джинсах и маечке, рядом с юношей изменяло замысел композиции. Получалось, что старый рабочий благословляет не юношу на труд, а чету новобрачных на счастливую жизнь. Только непонятно, почему молотком. Тут же вспомнились композиции актуального авангарда, виденные мною в лондонских музеях. Внедрение в мертвую материю живого артефакта дает непредсказуемый эффект.
Рената спрыгнула с постамента и подвела черту под исследованием, стараясь перекричать громкие куплеты марша:
– Скульптура сталинского соцреализма. Возможно, завод вывез ее со своей территории и установил здесь перед детским садом для назидания детишкам.
– Для малышей эта скульптура слишком угрюма. Она скорее пугает, чем радует.
– А кто арендует первый этаж?
– Какие-то нормалисты. Я ничего о них не знаю. Встречалась с директором лишь раз, когда окончательные бумаги на аренду с ними подписывала. Все предварительные переговоры Денис вел. А так больше не сталкивалась, хотя надо поближе познакомиться, соседи, как-никак.
– Какие нормалисты?
– Пока ничего не могу сказать кроме того, что написано при входе.
На двери висела фанерка с накорябанными вручную словами: «Добровольческое общество нормалистов».
– Сейчас мы у дворника разведаем обстановку, а потом пойдем знакомиться с шефом, – решила Рената и окликнула человека с метлой: – Милый друг, можно вас на минутку?
– И приглушите, пожалуйста, звук! – добавила я.