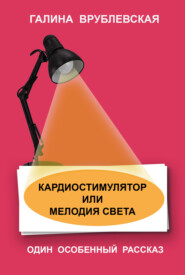По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Половинка чемодана, или Писателями не рождаются
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Как-то на одной интернет-платформе робот подсчитал, что в моём блоге – в постах и комментариях – чаще всего встречается слово «возраст». Упоминаю я его к месту и не к месту, а думаю о нём ещё чаще, особенно если оказываюсь в какой-то группе старше других. Начался этот невроз ещё в детстве.
В тот год Лёнька, мой сосед по коммуналке и товарищ по детским играм, стал второклассником, а был он, как вы помните, на год меня моложе. В школе мы с ним не общались, но погулять на улицу нас часто выпускали вместе. И запомнился один из сентябрьских дней, когда мы с дружком, отправляясь на прогулку, уже в нетерпении стояли у двери «чёрного хода» на нашей коммунальной кухне, выслушивая последние наставления Лёнькиной мамы. Высказав, как нам следует вести себя на улице, куда нельзя ходить, а куда можно, чужая мама завершила свою речь словами:
– Галя, ты присмотри за Лёней на улице, ты ведь старшая!
Да, я знала, что старше Лёньки на год, но никак не связывала это с дополнительными обязанностями. Ведь мальчик мне даже не брат, чтобы я за ним смотрела. Мы всегда общались и играли на равных. А старшинство я использовала в своих целях, лишь как дополнительный аргумент в бесконечных спорах и потасовках.
Но тут проказливый Лёнька подхватил слова мамы, запрыгал и вдруг выдвинул нелогичное заключение:
– Ты – старшая, ты – старшая! А я младший и буду жить дольше, чем ты.
– Почему это ты будешь жить дольше? – раскрыла я рот.
– Потому что ты на год старше! Когда тебе будет сто лет и ты умрёшь, мне будет только девяносто девять.
Я и Лёня Козловский, товарищ моих детских игр, сосед по коммуналке, 1951 год
В этом возрасте мы оба уже слышали, что люди живут по 100 лет, а потом сразу умирают. Но до сей поры не примеряли к себе. И в тот момент мне такой расклад показался несправедливостью: выходило, что меня ожидала менее выгодная, по сравнению с Лёнькиной, судьба. Я нахмурилась, открыла дверь и молча вышла из квартиры. На лестнице Лёнька догнал меня, как всегда, слегка пихнул в спину, я удержалась на ногах и тоже ответила ему толчком – у нас завязалась привычная кутерьма, и оба мы уже забыли про возраст. Вскоре, радостно припрыгивая по булыжникам мостовой, уже бежали к нашему каналу Грибоедова, чтобы спуститься по старинной лестнице к мутной воде и начать бросать в неё камешки, подобранные по пути. О запрете не приближаться к воде уже не вспоминали ни старшая, ни младший.
Однако с того дня, куда бы я ни попадала, я обращала внимание на возраст товарищей по играм и переживала, если оказывалась на год-два старше других ребят. В классе мы в большинстве своём были одного года рождения, так что о возрасте забывалось. Хотя в средних классах, помню, сочувствовала двум-трём одноклассникам, родившимся осенью и зимой годом ранее остальных. Считала, что они переживают из-за того, что такие старые. Волей-неволей я обращала внимание на возрастную позицию каждого в той или иной группе.
В этой главе я обозначила первое появление условного тега «возраст» в моей биографии. Но тема ещё не раз возникнет в этом повествовании, и каждый раз она будет сплетена с драматичными обстоятельствами. Я примерю на себя роль старшей и младшей. Пробегу тропинками детства, дорожками юности, пройду нескончаемым шоссе зрелости. И наконец начну продираться сквозь чащу преклонных лет, теряя последние козыри старшинства.
Часть 2. Мозаика жизни
1. В новой школе
Моё трудное вхождение в отряд пионерлагеря показалось мне поначалу случайностью. Я не предполагала, что моя притирка к любому новому коллективу в дальнейшем станет для меня испытанием. Но оказалось, куда бы я ни пришла впервые, во мне сразу просыпался мой боязливый внутренний Ребёнок. И он заранее ждал, что другие люди его не примут, не полюбят, вытолкнут из своей среды.
Окончание восьмого класса у меня совпало с хрущёвскими реформами, разделившими школы на восьмилетки и одиннадцатилетки с так называемым политехническим уклоном. Мало того, что продолжительность учёбы в школе увеличивалась на целый год, так ещё приходилось изучать рабочее ремесло, никак не связанное с будущей профессией. Спектр ремёсел был широк: швеи-мотористки, телеграфисты, машинистки, радиомонтажники и даже химики-лаборанты.
К восьмому классу я уже склонялась к техническому профилю. Та половинка чемодана, где недавно ещё громоздились мои игрушки, теперь заполнилась полезными книжками, такими как «Занимательная физика», «Сборник ребусов и головоломок» или подаренное бабушкой «Руководство по кройке и шитью». Дедушка прикрутил когда-то снятую крышку с чемодана на место, и моё книжное хранилище представляло почти сейф – чемодан даже закрывался на ключик. В семье же из книг имелось только собрание сочинение Льва Толстого довоенного издания. Тома в тёмно-синих коленкоровых обложках чудом сохранились после ленинградской блокады, когда книгами топили печи, и теперь занимали целую полку старой этажерки.
Книги для чтения я брала из районной детской библиотеки или перехватывала запретные для меня романы у мамы – она тоже приносила их из библиотеки.
Но вернусь к своему теперь закрывающемуся чемодану. На самом дне его, под полезными книжками, хранились мои девичьи дневники и одно постыдное, как мне казалось, письмо. В конверте с обратным адресом редакции журнала «Юность» лежал листок с отказом на мою первую повесть. Черновики повести я сразу вынесла на помойку, но письмо из настоящей редакции хранила несколько лет, самой себе в назидание, чтобы больше не пытаться писать всякую чушь. Сюжет повести выветрился из памяти, только помню, что называлась она «Семиклассники» и писалась в седьмом классе.
В то время как мой первый литературный опыт получился таким неудачным, моё участие в математической олимпиаде школы оказалось успешным: я решила все задачи, и меня делегировали от восьмиклассников на районные состязания. И пусть там я не заняла призового места, допустив ошибки в задании, участие в районной олимпиаде придало мне уверенности в своих математических способностях. Поэтому и выбор новой школы для продолжения учёбы был предрешён. Я подала документы в девятый класс, где одновременно обучали профессии радиомонтажника, а сама школа № 211 имела уклон в сторону физики и математики. (Эту направленность школа сохраняла вплоть до начала 90-х годов, став впоследствии языковой.)
Как водится в подростковом возрасте, мы отправились подавать документы в новую школу вдвоём с подружкой Люсей. Она не имела склонности ни к математике, ни к другим дисциплинам, но пошла со мной за компанию. До школы надо было ехать несколько остановок на трамвае – здание находилось на старинной Гороховой улице, в ту пору носившей имя Дзержинского. Школа имела интересную столетнюю историю. Открывалась как училище для девиц недворянского происхождения, в какой-то момент стала пединститутом, в довоенные советские годы – школа-девятилетка для детей трудящихся, а после войны – средняя мужская. В год моего поступления – нового типа политехническая школа-одиннадцатилетка с производственным обучением.
Архитектурный декор здания вызывал ассоциацию со старинным университетом: разлинованный рустом на ровные прямоугольники фасад; огромные полуциркульные окна с арочным завершением на первом этаже; строгие входные двери с широкими створками. И продолжала эту красоту просторная мраморная лестница в два пролёта, ведущая на второй этаж. Хотя здание имело всего три этажа, высотой не уступало соседним четырёх-пятиэтажным жилым домам – потолки в классах были высокими, как в театре.
Мы с Люсей робко вошли в кабинет директора, протянули свои школьные свидетельства за восьмой класс, характеристики. Заявили, что хотим в класс радиомонтажников. Позже я снова встречусь с директором Петром Ивановичем – уже на уроках математики.
Просматривая моё свидетельство с четвёрками и пятёрками, директор благожелательно улыбнулся и заявил, что может зачислить меня в радиомонтажники. Но Люське, с документом из сплошных троек, предложил пойти в класс, где ученицам давали профессию швей-мотористок.
Согласно реформе, в одиннадцатилетке предполагалось обучать только школьников последних трёх классов: девятого, десятого и одиннадцатого. Младшие классы перевели в другие школы, так что образовательное учреждение походило на современный лицей. Притом в параллели было не два-три класса, как в традиционной школе, а от восьми до десяти.
После недолгого размышления Люська забрала свои документы и отнесла их в вечернюю школу рабочей молодёжи, а работать устроилась секретаршей в одну контору, где её папа был начальником. Вечернюю школу она окончила и даже сумела поступить в торговый институт, ибо в те годы конкурс в него был невелик. И хотя после второго курса института Люську отчислили, карьера подруги сложилась неплохо. Она окончила курсы бухгалтеров и в перестроечные 90-е годы оказалась на коне и при хороших деньгах. В то время когда дипломированные инженеры массово пополняли армию безработных, бухгалтеры были нарасхват – всюду открывались банки и частные предприятия, и всё требовало учёта. Я так подробно пишу здесь о подруге, поскольку мы поддерживали отношения долгие десятилетия, хотя и начали отдаляться друг от друга с этого момента.
Итак, наши с Люськой пути-дороги разошлись, а я в тот учебный год снова оказалась новенькой в классе, опять одиночкой. Мои трудности сближения с классом усугубились тем, что половина учеников занимались вместе восемь лет, а поступившие из других школ пришли по двое, по трое.
Перед началом занятий я чувствовала себя неуверенно, стояла в сторонке. Прозвенел звонок, и я прошла вслед за другими в класс, молча села на предпоследнюю парту. Неожиданно ко мне подошла одна из девочек и дружелюбно спросила:
– Как тебя звать? Можно сесть с тобой?
Но почему я всегда цепенею в новом месте, почему она обратилась ко мне, а не я?
Ленка, так звали мою соседку по парте, на оставшиеся школьные годы стала моей близкой подругой. Оказалось, она тоже в этом классе никого не знала. У нас выявилось много общих интересов: занятие одним видом спорта, хотя и в разных клубах, интерес к рисованию и архитектуре, а также болтовня на уроках, за которую нам нередко писали замечания в дневник. Вдвоём нам не было уже ни страшно, ни скучно, но с остальной частью класса мы так и не сблизились.
Лишь однажды весь наш класс, как тогда говорили, «в едином порыве» высыпал на улицу в учебное время, и это не было побегом.
Помнится, мы сидели в классе, на уроке английского языка, как всегда вжимая головы в плечи, когда учительница склонялась с авторучкой над журналом, раздумывая, чью фамилию назвать, кого вызвать к доске. И вдруг в классе включилась радиотрансляция – по ней обычно объявлялось о субботниках, собраниях или иных скучных мероприятиях. Но на этот раз звучал торжественный голос Левитана. Он объявлял, что первый человек – наш, советский – Юрий Гагарин полетел в космос. Все закричали «ура», начали шуметь, поскакали с парт, и вскоре весь класс оказался на улице. Поскольку наша школа находилась в центре города, за нами и перед нами шли толпы других школьников, студентов, просто горожан. Мы прошли ближайшей улицей одну трамвайную остановку и оказались на Невском проспекте у Казанского собора. Там уже шествовала стихийная демонстрация, в руках многих были самодельные плакаты – листы ватмана, прибитые к фанере, и на них кривыми буквами выписаны слова восторга героям космоса и создателям космических кораблей.
11 класс, 211 школа, Ленинград, 1963 год
Ещё один момент, когда нам с подругой Ленкой выпало приобщиться к истории, случился в нашу последнюю школьную весну 1963 года. И опять расположение нашей школы сыграло решающую роль. Если с одной стороны школы, на расстоянии трамвайной остановки, находился широкий Невский проспект – главный проспект нашего города, – то с другой стрелой вытянулся Вознесенский проспект (тогда пр. Майорова), второй известный луч города, замышленного отцом-основателем Петром I. Это была правительственная магистраль, и по ней часто провозили высокопоставленных зарубежных гостей в Мариинский дворец на Исаакиевской площади – в те годы в нём собирался Лен совет, а впоследствии, после перестройки, обосновалось Законодательное собрание Санкт-Петербурга. В тот день ожидалось тоже невероятное событие: должен был проезжать кортеж с легендарным Фиделем Кастро.
Для молодёжи первого послевоенного поколения далёкий кубинский лидер был сравним разве что с Лениным: тоже революционер, тоже первый и тоже основатель нового государства.
Вдоль проспекта организованно выставляли служащих близлежащих предприятий, однако желающих увидеть романтического руководителя было гораздо больше. Тут толпились домохозяйки, студенты, школьники и, среди прочих, мы с подругой Ленкой, сбежавшие с последних уроков. Стоял тёплый майский день, на всех встречающих уже были лёгкие пальто, многие в лёгких туфлях и без головных уборов, а в руках некоторых – цветы. Мы втиснулись в толпу на обочине узкого тротуара. И проезжая часть была достаточно узкая – кортеж мотоциклов едва не задевал нас. И вот уже совсем рядом машина с открытым верхом, и в ней стоял тот, ради кого мы оказались здесь. Фидель, крепкого вида, мужественный, со жгуче-чёрной бородой, как мы привыкли видеть его на фотографиях. Он заметно возвышался над сопровождающими его приземистыми функционерами.
Мы смотрели на лидера революционной Кубы с обожанием, полным фанатизма. И даже мечтали о том, вот бы здорово броситься под ту машину (технически это казалось вполне осуществимым, поскольку машина проезжала на умеренной скорости). Разумеется, остаться живыми. Машина бы остановилась, Фидель вышел бы из машины, подошёл к нам, лежащим у колёс, склонился над нами…, в общем, фантазии и того времени вполне писательские:).
За исключением таких, выпадающих из ряда вон событий, мы не чувствовали, как говорится, единения с народом или даже с одноклассниками и продолжали общаться исключительно с Ленкой.
В одиннадцатом классе главным перед нами стоял вопрос выбора профессии.
На тот момент меня снова захватили литературные увлечения, я охотно участвовала в создании стенгазеты класса, занималась в школьном кружке журналистики. Однако интересующие меня факультеты – журналистики, филологии, искусствоведения или психологии – были недоступны для выпускников дневных школ. По закону того времени для подачи документов на эти специальности требовалось иметь два года рабочего стажа. Реформа, превратившая обычные школы в политехнические одиннадцатилетки, поставила заслон на поступление выпускникам школ на дневные гуманитарные факультеты. Так что ввиду общего порядка поступления в вузы гуманитарная стезя не рассматривалась мною совсем.
Но хорошая успеваемость по всем предметам и любознательность к разным сферам оставляли мне большой выбор среди профессий естественнонаучного профиля.
Разумеется, не все предметы мне были одинаково интересны, не ко всем я относилась с одинаковым прилежанием. Не знаю, насколько повлияла на меня профессия отсутствующего отца – я знала, что он работает учителем биологии в своём далеке, – но я не любила биологию и химию. А также, имея маму-врача, не смотрела и в сторону медицины. Как будто я бессознательно отгораживалась от этих дисциплин, сохраняя внутреннюю дистанцию от родителей. Зато множество технических вузов с набирающими популярность специальностями – электроникой, автоматикой, прикладной физикой – открывали простор мечтам выпускницы с крепким аттестатом.
2. Мой гардероб
Каждая девочка, но предположу, что и мальчики переживали из-за своего внешнего вида, особенно в подростковые годы, начиная лет с двенадцати. У меня недовольство своим лицом, отражённым в маленьком зеркальце – курносым носом, неправильным прикусом, тонкими губами, морщинками у глаз при смехе, прыщиком на носу, – чередовалось с принятием образа в целом в большом трюмо, если я рассматривала себя в обновке.
С мамой, Ленинград, 1960 год
Но в те времена детям редко покупали что-нибудь новое, да и выбор в магазинах был невелик. Чаще нарядные платьица приходили мне от каких-то родственников или знакомых, но что-то шила мне бабушка, не являясь, однако, искусной портнихой. И самым для меня ужасным было ненавистное зимнее пальто из грубого чёрного драпа, перелицованное – то есть вывернутое наизнанку – из старого мужского пальто деда. Пальто с воротником из чёрного каракуля, тоже переделанного из какого-то старья. Я всячески избегала надевать это тяжёлое тёплое пальто зимой, до ощутимых морозов носила серенькое демисезонное, купленное мне в магазине. И с первыми лучами солнца в морозном ещё марте торопилась снова к лёгкому одеянию.
Иногда мне удавалось выпросить что-то из маминых нарядов – помню кирпичного цвета крепдешиновую блузку, единственную приличную в её гардеробе. Моя мама была маленькой и худощавой женщиной, так что к своим четырнадцати годам я уже перегнала её в росте, но блузку могла носить. А юбки я уже научилась шить сама в платном кружке швейного дела. Занятия в кружке мне оплатила бабушка.
Но были у меня и свои любимые вещи, например шапки из разнообразного меха. И обновлялись они часто! В средних классах я носила шапку, сшитую объёмным капором из шкурок хорька, – шоколадно-коричневую, с пламенеющими рыжими полосками; позже у меня появился чёрный берет с шариком-помпоном – из кролика; а ещё моя любимая шапка из сивой нутрии – с игривым бантиком над кожаным козырьком – её я носила уже в институте.
Все модные в то время меховые шапки мне профессионально шила бабуля, шила до последних её дней. Десятилетней девочкой, в начале двадцатого века, она была отдана «в ученичество» к скорняку. После революции работала на меховой фабрике «Рот фронт» и с гордостью хранила свою фотографию с доски почёта, где к её фамилии было приписано слово «стахановка». Уже будучи на пенсии, иногда подправляла родственникам меховые воротники для их перелицованных пальто. Я с удовольствием помогала бабуле прибивать маленькими гвоздиками к старой фанере распяленные воротники ворсом вниз, вдыхая лёгкий запах кожи выделанной мездры. На ней портновским мелком бабуля делала крой и отреза?ла острой бритвой всё лишнее.